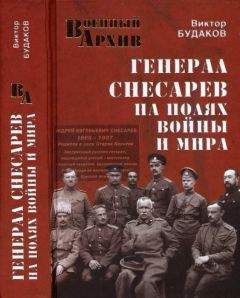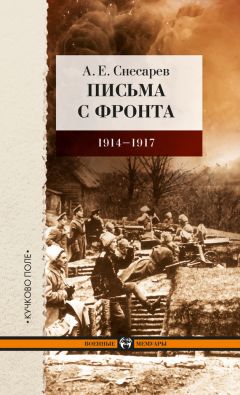Многим казалось, что за самоутверждённого нового Верховного главнокомандующего будет решать начальник штаба Ставки, в данном случае генерал Алексеев, хотя и кабинетный, канцелярский, но многоработящий и стратег не из худших; правда, и не из твёрдых, волевых, так что всё-таки было неясно, кто же будет держать кормило, но уже ясно, что не одна личность, а объединённые по-разному силы, очевидные и неочевидные.
В письме от 28 августа 1915 года Снесарев сообщает: «Веду дневник почти без пропусков… О событиях в дневнике я пишу мало, больше останавливаюсь на думах и впечатлениях, проверяю свои старые выводы и мало-помалу стараюсь разобраться в легионе поднятых войною тем. Она должна перевернуть всю Европу, перечертить государства, пересмотреть некоторые науки и дать новый тон искусствам; и нам надо суметь почерпнуть из неё все те поучения и выводы, которые только можно сделать, дабы по возможности облегчить плечи наших детей и внуков…»
Дневник Снесарев вёл и в предвоенные, и в послевоенные годы, пусть и не до конца своей жизни, но до конца ясности своей памяти. Сохранись этот совокупный дневник за полвека такой бурной и трагической русской жизни, он бы, при всей искренней субъективности, явил документ большой правды и панорамности. Но если текст большого дневника условно и хронологически разделим на дневники пространственные — «карпатский», «царицынский», «смоленский», «северный», то увидим, что полностью сохранился разве первый; в остальных недостаёт страниц и даже тетрадей.
В начале осени, как и в конце весны, у Снесарева в письмах к жене снова слышим просительные нотки: разузнать, могут ли ему в Петрограде временно предоставить «генштабовское» место с тем, чтобы он чуть «приотдохнул» от войны, а затем снова вернулся на фронт; надеется на высокие знакомства жены, когда она работала в Зимнем дворце, — быть может, кто-то посодействует.
Через несколько дней — опять: «…Не можешь ли ты сейчас же начать зондировать почву, чтобы мне в Петрограде или где-либо было предоставлено генеральское место (Военное училище, Азиатский отдел, место в Главном штабе или Главном управлении Генерального штаба и т.п.). Я на войне 14 месяцев и в сплошном бою… думаю, случай единственный в своём роде. Другие или позже явились, или были в отпусках, или в командировках, или, наконец, отдыхали за лёгкими ранениями. Моя мысль идёт к тому, чтобы немного отдохнуть и собраться с силами, а затем, если война затянется, я вновь махну на фронт…»
Просит он, как и в мае 1915 года, как и в предыдущем письме, разумеется, не корысти и не карьеры ради, но в убеждении, что, повидавший и южные, и западные границы, повоевавший и как штабист, и как командир-окопник, он и его военные практика, опыт и интуиция пригодились бы в высоких сферах Генштаба.
Снова и снова возвращается к бою от 24 августа — трагическому для его полка бою. «Как много на войне зависит от счастья — есть оно, всё идёт прекрасно, покинуло — в один момент можно потерять не только жизнь, но и доброе имя. Это наблюдаешь всюду, и это более всего на войне угнетает».
«…Конечно, всё горе в том, что ты стала на наиболее тяжкое предположение, что твоего супруга разжалуют, — пишет жене в письме 9 сентября 1915 года. — Ты права, у нас так устроено, что за неудачу или за прямое несчастье, бывает, что и разжалуют, но… меня пока представили в генералы. Мне же лично страшно не это разжалование, а мысль, меня удручавшая несколько дней и сверлившая моё сердце, а именно: не виновен ли я чём лично, не упустил ли я что-либо, не был ли небрежен или слишком доверчив и т.п. И я работал целую неделю над этим… расспрашивая всех, кто мог осветить дело, ставя себя на положение обвиняемого, делая себя и других прокурорами… Теперь всё это миновало, и я смотрю на прошлое уже успокоенный… мне ясна эта сложная, но глубоко драматичная картина. Я сделал всё, что мог, вплоть до 8-часового пребывания под адским огнём, присутствия на всех наиболее угрожаемых пунктах, контузии и ухода с поля с последними цепями на глазах неприятельских цепей, следовавших в 200 шагах за мною…»
Терзания от неудачи в бою долго не оставляют его сердце и ум. Позже (в письме от 18 октября 1915 года) пишет, что в беседе с командиром дивизии тот, на удивление, по поводу несчастного боя 24 августа «приводит много моих доводов, которые некогда мне трудно было ему привить. Когда-то я говорил ему о подавляющих силах врага (1–2 дивизии), о невозможности подводить резервы по огневым полям, о необходимости своевременно удалить некоторые части и т.п. Теперь он повторяет всё это, выдавая за свои выводы. Дело в том, что найден был австрийский документ, из которого увидели всё то, о чём я тщетно говорил им. Я страшно рад, что поведение полка вырисовано теперь в самом блестящем свете, так как он боролся с восьмерными силами и погиб с честью. Никто не смеет теперь бросить в него камень осуждения».
Его размышления — как кто из начальников держится и удерживается или выпроваживается из армии — словно добавления к пережитому им и его полком. Письмо через полгода — от 4 апреля 1916 года: «…нам известно, что в Австрии за время кампании прогнано большинство генералов. Люди стоят пред мудрым делом, результаты видят, но причин понять не могут и резкую неудачу валят на первую причину, которая представляется их куцему уму… А этой причиной часто является человек… и его гонят… держат таких, за которых только их прошлое, связи и кумовство». А один из «таких», и конечно же, не один, может быть, является крупной, пока скрытой, причиной больших грядущих неудач.
Когда Черчилль во время немецких бомбардировок на одной из пресс-конференций наставлял британских журналистов, дескать, они должны позабыть все темы, страсти и слова, кроме одних, — германская авиация ежедневно бомбит Англию, — и писать только эти слова ежедневно во всех газетах, он не был ни вызывающ, ни оригинален. Сколько сходного говорилось до него в соответственной национальной обстановке. Нечто подобное говорил и русский царь в дни мировой войны. «Что естественнее и глубже слов Государя, сказавшего, что теперь надо думать о войне и пока больше ни о чём, — пишет Андрей Евгеньевич в письме жене от 7 сентября 1915 года, — а между тем у вас начинают думать о чём хотите, только не о войне… “Русские ведомости”… утверждают, что теперь насущное время для коренных реформ… Это во время войны-то?.. Кто же перестраивает корабль, когда вокруг него хлещут бури и раскатываются волны! Только думают о непогоде и спасении. Стихнет буря, придут в гавань, тогда перестраивай и перекрашивай корабль хоть сверху донизу!»
(Сентябрь — октябрь 1915 года. Отпуск, встреча с семьёй. Это первая встреча во время войны. Жена — в ускоренной военными невзгодами грустной поре — предшественнице женского увядания, хотя в этой поре она ещё более мила и обаятельна. Часто бывали на Неве, в Летнем саду, в тех памятных уголках, в которых они любили отдыхать по переезде из Ташкента в Петербург. Но ссор избежать не удалось, как бывает у глубоко любящих людей, жаждущих быть едиными во всём.)