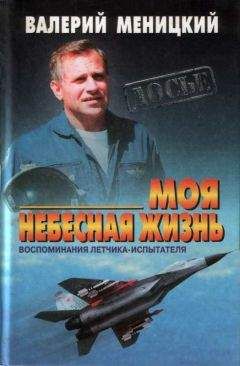«Странное чувство, — писала она впоследствии в своих воспоминаниях. — Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа…»
Об этом неожиданном приходе юной незнакомки Блок написал стихи:
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько не говорите о печальном,
Сколько не размышляйте о концах и началах,
Все же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.
В 18 лет, в 1910 году, Елизавета Пиленко выходит замуж за своего двоюродного брата Дмитрия Кузьмина-Караваева, юриста по образованию, который был близок к литературной среде и ввел туда свою молодую супругу. Когда они поженились, то все близкие и знакомые недоумевали: очень они отличались друг от друга и, как говорили, были не парой. Это и сказалось чуть позднее, когда в Кишиневе Кузьмина-Караваева встретила другого человека и полюбила его. Она обратилась к мужу с просьбой дать ей развод, но развода не получила. Когда родилась дочь (Гаяна, что означало: земная), Кузьмин-Караваев дал ей свою фамилию и признал своей дочерью. Но даже это не спасло их брак.
Еще будучи замужней, в 1910 году, Кузьмина-Караваева во второй раз встретилась с Блоком, после чего между ними завязалась переписка. Она писала Блоку: «Когда я была у вас еще девчонкой, я поняла, что это навсегда… а потом жизнь пошла, как спираль… кончался круг, и снова как-то странно возвращалась к вам… С мужем я разошлась, и было еще много тяжести кроме того… и снова человека полюбила… И были вы… Забыть вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для вас вошедшей в круг жизни. А я сама — ни при чем тут».
Блок ответил ей 1 декабря 1913 года: «Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать вам не только то, что я получил ваше письмо. Я верю ему, благодарю и целую ваши руки. Других слов у меня не может быть, не будет долго…»
Кузьмина-Караваева не унимается: «Милый Александр Александрович. Вся моя нежность к вам… Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли — все преображено воедино, и все к вам направлено…»
Последнее письмо к Блоку она направила 4 мая 1917 года:
«…Мне грустно, что я вас не видела сейчас: ведь опять уеду и не знаю, когда вернусь».
Она уехала на юг и уже не вернулась в Россию никогда. О кончине Блока Кузьмина-Караваева узнала в Югославии, где бедствовала с матерью, тремя детьми и вторым мужем. Горе по утрате Блока было беспредельным… Стихи Блока она помнила всегда и часто читала их другим.
Однако вернемся во времени назад. В Петербурге Кузьмина-Караваева бывала на «Башне» Вячеслава Иванова, входила в «Цех поэтов». Посещала кабаре «Бродячая собака» и… заседания религиозно-философского общества (для того времени такой разброс интересов не вызывал удивления). Она дружила с Анной Ахматовой, которая ценила ее как человека «необычайных душевных достоинств», близко знала Гумилева, Волошина, Городецкого.
В 1912 году вышел первый сборник Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки», который был замечен, и Кузьмину-Караваеву поставили в один ряд с Цветаевой, хотя Нарбуту книга не показалась: «Стихи-думы… тяжеловаты, сумрачно и однообразно тягучи».
Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо в водоем…
Недоступна чужому народу
Степь, где с Богом в веках мы вдвоем.
Или вот строки из стихотворения «Послание»:
Как радостно, как радостно над бездной голубеющей
Идти по перекладинам, бояться вниз взглянуть,
И знать, что древний, древний Бог, Бог мудрый, нежалеющий,
Не испугавшись гибели, послал в последний путь.
В первом сборнике Кузьминой-Караваевой особенно поражало необычное сочетание языческого начала с христианством. В 1915 году вышла лирико-философская повесть «Юрали», стилизованная под Евангелие. В уста героя — пророка, певца и сказочника — Кузьмина-Караваева вложила свое кредо: «Отныне я буду нести и грех и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой».
В 1916 году вышел второй сборник стихов «Руфь».
Заворожены годами
Ненужных слов, ненужных дел,
Мы шли незримыми следами;
Никто из бывших между нами
Взглянуть на знаки не хотел…
…И тайный трепет сердце гложет,
Пророчит явь, несет беду…
Удивительно, как чувствовала молодая женщина грядущую беду. Беда стояла у порога России, и в ее судьбе не могла не участвовать Кузьмина-Караваева. Она вступает в партию эсеров, становится головой Анапы. Как художник и график изготавливает фальшивые документы для эсеров-боевиков, по одному из таких пропусков Фанни Каплан и проникла на завод Михельсона. Попадает в лапы к белым за сотрудничество с большевиками, ее должны были судить и расстрелять, однако за нее вступился казачий деятель Скобцов-Кондратьев и спас ее. Кузьмина-Караваева стала его женой, и они вместе в 1919 году покинули Россию.
С 1923 года обосновались в Париже. Кузьмина-Караваева сразу активно включилась в общественно-литературную жизнь эмиграции. Много писала и много издала: автобиографическую повесть «Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин» о гражданской войне, в 1927 году вышла «Жатва духа. Жития святых», монографии о Хомякове, Достоевском и Владимире Соловьеве.
Татьяна Манухина вспоминала Кузьмину-Караваеву до ее монашеского пострига: «Внешне Е.Ю. напоминала нашу курсистку-революционерку того старомодного стиля, отличительной чертой которого было подчеркнутое пренебрежение к своему костюму, прическе и бытовым стеснительным условиям: виды видавшее темное платье, самодельная шапочка-тюбетейка, кое-как приглаженные волосы, пенсне на черном шнурочке, неизменная папироса… Е.Ю. казалась такой русской, такой, до улыбки, русской! Можно было только удивляться, как она сумела сохранить в Париже, в центре моды и всякой внешней эстетической вычурности, всем нам знакомый облик русской эмансипированной женщины. И лицо у нее было тоже совсем русское, круглое, румяное, с необыкновенно живыми, „смеющимися“ глазами под темными круглыми бровями, с широкой улыбкой, но улыбкой не наивно-добродушной, а с той русской хитринкой, с той умной насмешливостью, которая отлично знает относительную ценность слов, людей и вещей».