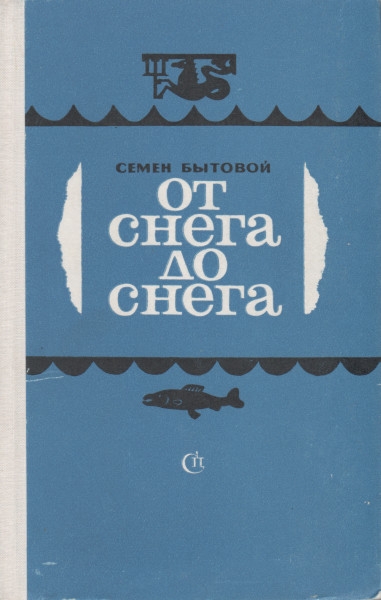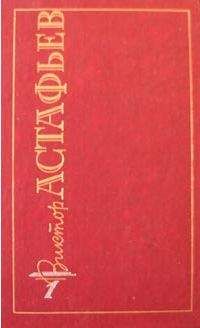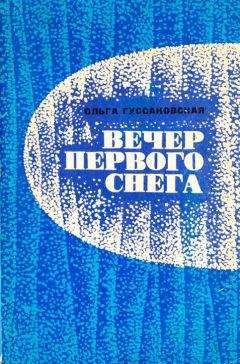только разрешил, но даже был рад этому, ибо все дни, несмотря на свое обещание поездить со мной по прибрежным маньчжурским селениям, ему никак не удавалось отлучиться из комендатуры.
...Дорога, помнится, шла в горы. Машину на крутизне мотало с борта на борт, словно лодку на Амуре в хороший шторм, и шофер, чтобы не съехать на поворотах задними колесами в ущелье, склонился над баранкой и был весь внимание.
Слева бежала река, не слишком была она широка в этой горной местности, и закатное солнце отражалось в спокойной воде. Вниз по течению плыли рыбацкие шаланды под темными квадратными парусами. Как только они повернули к песчаной косе, вдоль которой раскинулось небольшое рыбацкое селение, сидевшие на мачтах длинноклювые зобастые бакланы поднялись в воздух. Покружившись невысоко, они полетели к фанзам, сели на плоские, поросшие бурьяном крыши и исчезли из виду.
И я подумал: не в это ли селение, где маньчжуры ловят рыбу с прирученными бакланами, собирался съездить со мной капитан Стрельцов?
Вот впереди показался спуск. Шофер быстро выключил мотор, сильно нажал на тормоза, и машина бесшумно понеслась с почти отвесного склона. Сразу же за поворотом горной дороги перед нами открылась просторная падь, вся изрезанная на узкие полоски, с них еще не везде был убран гаолян, и густые рыжеватые метелки его уже сникли и кое-где полегли.
Мы сидели с Тамарой Осиповной в санитарной карете около опущенного окна, и встречный ветер, наполненный ароматом растений, врывался широкой освежающей струей. Несколько минут мы молчали. Я смотрел на Тому и думал, что никакая она еще не «старуха» в свои тридцать семь или сорок лет, — она была старше меня, — и даже война не так уж состарила ее, только в уголках продолговатых глаз собралось много морщинок.
На Томе был все тот же защитного цвета китель и синий берет, несколько сдвинутый на левый висок.
Перехватив мой пристальный взгляд, она спросила:
— Я вижу, ты сравниваешь, какой я была и какой стала?
— От тебя ничего не скроешь, — откровенно признался я и, вспомнив, что до сих пор еще не узнал, есть ли у нее муж, дети, спросил: — У тебя, наверно, семья?
— Была и семья. Мой муж, тоже военный хирург, погиб в апреле уже на подступах к Берлину. В палатку, где он оперировал, попал немецкий снаряд. — И, помолчав немного, сказала: — Теперь у меня на всем белом свете один сыночек Афанаська, четырех лет от роду.
Она достала из планшетки две фотографии: мужа и сына.
Фотография мужа была любительская, снятая на фоне простой крестьянской избы, должно быть, временно приспособленной под медсанбат. Хирург Крылов, крупного сложения, с зачесанными назад редкими волосами на большой лобастой голове, стоял, прислонившись спиной к бревенчатой стене избы, засунув руки за пояс белого, в темных пятнах халата, и смотрел исподлобья усталыми от бессонницы глазами.
— Эта фотография сделана еще весной сорок третьего, — сказала Тома. — Около двух лет мы ничего не знали друг о друге. Я только слышала, что дивизия, в которой воевал мой муж, в начале войны попала в окружение, и я уже, признаться, смирилась с мыслью, что Николай Валерьянович погиб. А в сорок третьем, когда и я уже была на фронте, случайно от одного военврача узнала, что Крылов жив. Когда после долгих хлопот я наконец разыскала его, мы уже не теряли друг друга, хотя воевали на разных фронтах.
— Афанаська твой — вылитый отец, — сказал я, — такой же крупный, лобастый...
Она взяла у меня карточку сына, с минуту внимательно вглядывалась в нее, словно вспоминала, действительно ли он так похож на отца.
— Вот и прекрасно, что вылитый он! — сказала Тома. — Ведь Николаю Валерьяновичу так и не суждено было увидеть сына. Он знал его только по фотографии, когда Афанаське было два годика. — И с чисто материнской восторженностью прибавила: — А он у меня, если хочешь знать, тоже фронтовик! Я родила его десятого июля сорок первого, можно сказать на поле боя, в расположении одной зенитной батареи.
— Нет, дорогая моя, теперь я окончательно убедился, что твой главный рассказ еще впереди, и мы не уедем из твоих Пяти Тополей, пока решительно все не узнаю о тебе! — И спросил шофера: — Что, товарищ старший сержант, долго еще нам ехать?
Он глянул через плечо:
— Впереди опять горы, так что еще с часик займет.
И верно, падь, которую мы наискось пересекли, вскоре до того сузилась, что перешла в горную дорогу, еще более каменистую, чем в начале нашего пути. Шла она вверх, опоясывая огромную сопку, сплошь — от вершин и до пят — заросшую хотя и невысоким, но очень густым лесом, где больше всего было каменной березы и ельника. Местами здесь даже рос дикий виноград, еще не совсем созревший, но довольно крупный, его мощные жилистые лозы, пробившись сквозь заросли, свисали вдоль отвесных склонов.
Солнце только одним краем зашло за горный хребет, и огненный закатный шар, казалось, стоял прямо над вершиной сопки, куда все круче забирала дорога. Хотя в просветах между деревьями лежали золотисто-розовые полосы, в лесу уже понемногу смеркалось, и шофер включил подфарники.
— Как там моя Сяо Мэй? — вслух подумала Тома. — Кажется, все у нас шло как надо. — И обратилась ко мне: — Ничего, если нам придется остаться в Пяти Тополях до утра?
— Тебе, доктор, видней. Не поедем же мы обратно на ночь глядя.
В этом селении, оказывается, была небольшая, на десять коек, больничка, оставшаяся от японцев. Кроме Сяо Мэй, которую Тома оперировала, там лежали еще две китаянки — одна с пневмонией и другая с каким-то рожистым воспалением. До приезда Крыловой в селение они находились у себя в фанзах без всякого медицинского присмотра, и Тома, узнав об этом, срочно поместила их в больницу.
— Я на часик отлучусь, — сказала Тома, когда мы в девятом часу приехали, — а ты отдохни, если хочешь.
Я уже несколько дней ничего не записывал в путевой блокнот, а впечатлений накопилось у меня за это время порядочно, и, как только Тамара Осиповна ушла, я примостился у небольшого столика и при тусклом свете керосиновой лампы принялся за свои записки.
А