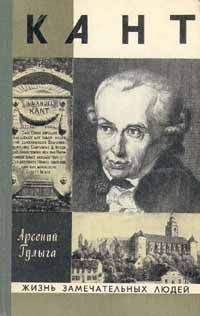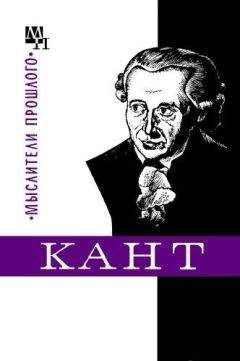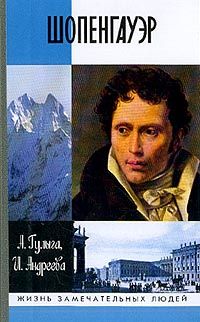Иной характер принимает ирония у немецких романтиков. Она становится не средством, а целью. Если сократовская ирония лишь первый шаг познания, итогом которого всегда является истина, добро и красота, то для романтиков ирония – вершина духа, взобравшись на которую художник-философ с презрением взирает на низменный мир. Тем самым достигается приобщение к красоте. Но как быть с истиной и добром?
Уже современники почувствовали слабость подобной позиции: если не самодовольство, то самоудовлетворение ироническим отношением к действительности. Гегель, полемизируя с романтиками, требовал возврата к сократовскому пониманию иронии. При желании он мог бы опереться на Канта.
Роль основателя критической философии в развитии иронии еще не оценена в полной мере. Дело в том, что Кант не теоретизировал по этому поводу. Он просто, как и Сократ, пользовался оружием иронии, расчищая с ее помощью место для построения здания истины и добродетели, пользовался тонко и осторожно. А философский юмор и философская ирония открываются не каждому. Надо было быть великим Гёте, чтобы в «Критиках» Канта уловить ироническое начало. «Этот замечательный муж, – писал поэт о философе, – действовал с плутовской иронией, когда он то как будто старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы намекал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел».
Вольтер говорил, что небеса дали человеку для облегчения его участи две вещи – надежду и сон. Кант готов был причислить сюда и смех, но лишь с одной оговоркой: если бы только легко было вызывать его у «людей разумных», а необходимое для этого остроумие не встречалось бы столь редко. Философ оттачивал свое чувство юмора, с годами все чаще прибегая к нему в творчестве. В тех случаях, когда ему приходилось писать об обществе, где сам материал провоцировал остроумие, где били в глаза вопиющие нелепости, где приходилось обманывать цензуру или встряхивать заскорузлые мозги обывателям.
Эрудиция Канта в области сатиры была безупречной. Персии, Ювенал, Эразм, Рабле, Свифт, Вольтер, Филдинг, Стерн, Лихтенберг принадлежали к числу его любимых авторов. «Человек – животное, которое способно смеяться», – говорил Кант. Он тонко чувствовал природу смеха, хотя и мало распространялся на эту тему. В том, что вызывает смех, утверждал он, должно быть нечто нелепое. (Не случайно Кант вслед за Шефтсбери считал пробным камнем истинности учения способность выдержать осмеяние.) Шутка основана на нелепости. Вы ждете что-то, а слышите (или видите) нечто совершенно неожиданное, и вы смеетесь. «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто». Свою мысль Кант иллюстрирует тремя остротами. Англичанин угощает индийца пивом, тот поражен, увидев вытекающую пену. Что вас удивляет, спрашивает англичанин. То, как ее туда втиснули. Наследник жалуется: ему не удалось устроить достойные похороны своему благодетелю: чем больше он платил плакальщикам, чтобы они выглядели опечаленными, тем веселее они становятся. И наконец, история купца, который в страшную бурю вынужден был выбросить за борт все свои товары и так горевал, что у него за ночь поседел парик. Вот, пожалуй, все, что можно прочитать о комическом на страницах «Критики способности суждения». Причем сказано это мимоходом в параграфе, озаглавленном «Примечание». Об иронии – ни слова.
Но Кант не мог не быть ироником. Он жил в раздвоенном мире, где жизненные обстоятельства, сложившиеся нравы и предписания заставляли говорить «да», в то время как голос совести кричал «нет». Как в таких условиях не дать ему заглохнуть, не превратиться самому в обывателя или конформиста? Своеобразной попыткой ответа на этот вопрос была дуалистическая философия Канта, отделявшая прочной стеной мир явлений, которые подчинены внешней необходимости, от мира вещей «самих по себе», где господствует свобода и нравственная чистота.
Надо сказать, что Гегель ясно видел морально-эстетические корни кантовского дуализма и решительно стремился к его преодолению. При этом Гегель не притуплял остроты поставленной Кантом проблемы. Мир действительно раздвоен, наряду с подлинным существует «мир наизнанку». Последнее для Гегеля не фигуральное выражение, а одна из категорий «Феноменологии духа». Комментаторы Гегеля давно обратили внимание на сатирический смысл этой категории. То, что содержится в «мире наизнанку», не просто противоположность существующего мира. Это перевертывание, как в кривом зеркале, дает возможность узреть тайную извращенность того, что происходит в реальном мире. Снятие «мира наизнанку» означает снятие сатиры. Тогда объектом ее невольно становится сама философия. С Гегелем так и получилось. Раздвоенность мира, по Гегелю, исчезает в движении сознания, противоположности примиряются и сливаются. И здесь нельзя не вспомнить Маркса, в насмешливых тонах перелагавшего подобное «движение» гегелевских категорий: «Да» превращается в «нет», «нет» превращается в «да», «да» становится одновременно и «да» и «нет», «нет» становится одновременно и «нет» и «да». Таким путем противоположности взаимно уравновешиваются, нейтрализуют и парализуют друг друга»[10].
Кант слишком трезво смотрел на вещи, чтобы дать успокоить себя какой-либо иллюзией. Ирония стояла на страже, четко прочерчивая границу между «да» и «нет». (Ироник никогда не путает эти вещи, его мнимое «да» лишь оттеняет «нет», его могут неправильно понять, но сам-то он всегда знает, в чем дело.) Ирония Канта чутко фиксировала то, что в мире существует «наизнанку» и, говоря словами Гёте, «не делится на разум без остатка».
Мы уже знакомы с «Грезами духовидца» – блистательным образцом кантовского искусства иронии. В статье «Предполагаемое начало человеческой истории» ирония скрыта. Лишь еле заметная улыбка автора оживляет внимание читателя. Кант уверяет, что намерен совершить «просто увеселительную прогулку» по истокам истории, используя «священный документ как карту», но трактует вещи серьезные. Библия предстает как исторический источник.
У своего читателя Кант предполагает безукоризненное знание Священного писания. Нам же придется напомнить текст. Речь идет о детях Адама. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Кант видит в этом «переход от дикой охотничьей жизни и собирания плодов во второе состояние», то есть к труду.
«3. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу; 4. и Авель также принес от первородных стада своего. И призрел Господь на Авеля и на дар его; 5. а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Пастушеская жизнь, рассуждает Кант, привольна и дает наиболее верный доход. Земледельческий труд тяжел, зависит от погоды, требует постоянного жилища, земельной собственности и силы, чтобы ее охранять. «Земледелец мог завидовать пастуху, как более покровительствуемому небом (ст. 4), и в действительности последний стал ему в тягость, поскольку пасущийся скот не щадит посевов».