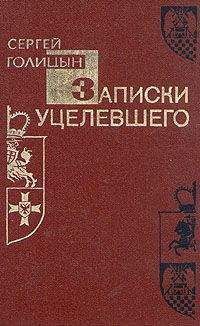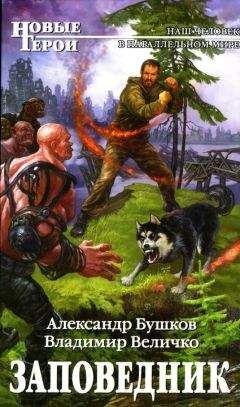14
В начале того же 1924 года был опубликован закон о выселении из своих имений последних помещиков. А оставались в своих родовых гнездах все больше ветхие старушки и старички.
Была у моей матери престарелая тетка — бабушка Юля — Юлия Павловна Муханова, — бездетная вдова Сергея Ильича Муханова, отставного кавалергарда, умершего еще в девяностых годах прошлого столетия и приходившегося дальним родственником декабристу Муханову.
До революции бабушка Юля жила в своем имении Ивашково, в двадцати верстах к северо-востоку от Сергиева посада. Теперь оно переименовано и называется в честь прежних владельцев — Муханово. Бабушка Юля любила принимать у себя в Ивашкове на зимние каникулы мальчиков — своих племянников и внучатых племянников, в том числе моего брата Владимира. Жила она, общаясь с соседями помещиками, часто ходила на могилу своем мужа, очень любила свою ближайшую наперсницу-эмономку и много внимания отдавала старушкам из богадельни, которую, основала и содержала на свои деньги. Была она маленькая, некрасивая, вся в бородавках и весьма разговорчивая. Брат Владимир называл ее Божьим одуванчиком, и это прозвище очень к ней подходило.
В первые годы после революции бабушку Юлю выселили из барского дома, и она вместе со своей экономкой перебрались в богадельню. Старушки, обитавшие там, считая ее своей барыней и благодетельницей, отвели ей отдельную комнату. Ей кланялись в пояс и оказывали всяческое почтение не только старушки, но и крестьяне.
Так жила она более или менее благополучно семь лет. Тяжкий удар постиг ее, когда власти в поисках драгоценностей раскопали могилу ее мужа и выбросили его прах. С помощью крестьян она вновь его погребла. А вскоре ее вместе с верной экономкой выселили из богадельни, обе они перебрались к брату экономки, священнику села Глинкова, что в четырех верстах к югу от Сергиева посада. Бабушка Юля написала моим родителям письмо, в котором жаловалась, что к ней относились с меньшим почтением, чем в богадельне.
Мои родители поехали в Глинково. Они убедились, что глинковские окрестности очень живописны. У батюшки было целых два дома и мои родители с ним договорились, что на лето снимут у него под дачу пустующий второй дом за сравнительно дешевую цену. А бабушку Юлю они привезли в Москву. Поместили ее у вдовы ее брата — у тети Настеньки Барановой, о которой я раньше рассказывал.
Тетя Настенька после смерти мужа и расстрела обоих сыновей привыкла жить одиноко и вскоре начала жаловаться на чрезмерную разговорчивость своей золовки. Мои родители написали красноречивое письмо в Париж младшей сестре бабушки Юли — графине Екатерине Павловне Хрептович-Бутеневой — и просили приютить бедную старушку у себя.
А в ту пору я и моя сестра Маша ходили учиться английскому языку к Софье Алексеевне Бобринской, жившей в Большом Власьевском переулке, напротив уцелевшей до сего времени, но жутко изуродованной церкви Успенья на Могильцах.
Софья Алексеевна сказала мне, что хочет серьезно поговорить с моей матерью и просит ее прийти как можно скорее. Мать пошла к ней, вернулась заметно расстроенная, а вечером родители позвали меня. Мать задала мне вопрос:
— Хочешь уехать за границу? Навсегда.
Я ответил решительным "нет!". Родители не стали меня уговаривать.
Оказывается, Софья Алексеевна долго и убедительно доказывала моей матери, что меня необходимо отправить в Париж, сопровождать бабушку Юлю, что, оставшись в Москве, я неминуемо погибну.
Как видит мой будущий читатель, я уцелел. А сейчас думаю, за границей я потерял бы корни со своей родиной, выбился бы в переводчики в ООН, писателем не стал и жил без особых треволнений и припеваючи. Спасибо матери, что она не послушалась совета Софьи Алексеевны, хотя и поступила, казалось бы, против здравого смысла. А надеялась она только на силу своей молитвы и на Божье милосердие.
После бабушки Юли осталась большая шкатулка красного дерева с перламутровыми инкрустациями. В шкатулке находились кое-какие старинные письма, фотографии родных, и прежде всего мужа бабушки Юли, а также альбом тридцатых годов прошлого столетия со стихотворениями, написанными разными почерками, с картинками, с засушенными цветами; принадлежал альбом девице Мухановой, родной тетке мужа бабушки Юли. Подруги той девицы вписывали в него стихотворения. Одно из них называлось «Смуглянке» и было подписано: "А. Пушкин". Шкатулка эта сейчас находится у моей сестры Катеньки, альбом попал к моему племяннику Иллариону. Он послал письмо в "Литературную газету", написал, что найден альбом и в нем неизвестное пушкинское стихотворение.
В капиталистическом мире наверняка сейчас же примчался бы репортер. Ведь сенсация! А "Литературная газета" спустя месяц безразлично ответила, что по данному вопросу следует обратиться в Пушкинский музей, дала адрес и телефон. Сейчас альбом находится в музее Царскосельского лицея. Исследовавший его пушкинист С. М. Бонди сказал, что стихотворение «Смуглянке» принадлежит одному второстепенному поэту той эпохи.
Бабушка Юля благополучно уехала в Париж и прожила там более десяти лет. А мы благодаря ей узнали о существовании села Глинково под Сергиевым посадом и сняли там дачу.
Наш хозяин глинковский батюшка отец Алексей Загорский приходился родным дядей тому самому большевику В. М. Загорскому (Лубоцкому), который был убит в 1919 году при взрыве в Леонтьевском переулке и в честь которого Сергиев посад был переименован в город Загорск.
В Глинкове мы снимали дачу шесть лет подряд. И мне, и моим младшим сестрам те месяцы каникул, с точки зрения воспитательной, становления характера, выработки убеждений, дали очень много. Сама окружающая природа с необозримыми лесами, с колокольнями по многим селам, с малой, петляющей в кустах речкой Торгошей, — природа поэтичная, благостная, которую запечатлели на своих полотнах Васнецов, Нестеров и те художники, кто любил старую Русь, покорила и меня и моих младших сестер. Я бродил по лесам зачастую один; настроение у меня было приподнятое, я мыслил поэтическими образами. И то, что я стал писателем, что мое творчество связано с Древней Русью, с ее красотой природы, с ее славной историей, я во многом обязан Глинкову.
Троице-Сергиевская лавра была закрыта, но скиты Гефсиманский — вблизи Глинкова, и Параклит — подальше, еще существовали. В лесу или по дороге в Сергиев посад можно было встретить монаха в скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел наклонив голову, шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов он казался словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина. Да, дух преподобного Сергия покинул Лавру, а здесь, в обоих скитах, по лесам и тихим речкам, он еще витал…