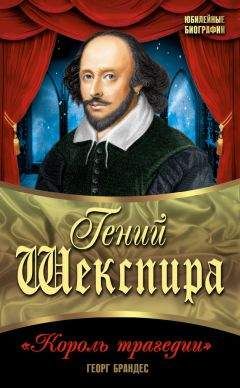Я не знаю тебя, старик. Займись молитвами, белые волосы не идут шуту и забавнику! Мне долго снился такой же человек, так же распухший от распутства, так же старый и так же бесчинный; я проснулся и гнушаюсь моим сном.
Эти слова вылились прямо из души Шекспира. В них кипит совершенно новый, подавленный и далеко не пламенный гнев. В них явственно чувствуется спокойное, серьезное, чисто английское чувство справедливости и законности. Король дает Фальстафу пожизненную пенсию и прогоняет его от себя. Герой Шекспира проникнут здесь насквозь чувством ответственности, являющимся в глазах поэта, которому один из его величайших и талантливейших поклонников, Тэн, отказал в нравственном инстинкте, непременным условием истинно великих нравственных подвигов.
Вторая часть «Генриха IV». –
Старое и новое. –
«Генрих V» как национальная драма. –
Любовь к отчизне и шовинизм. – Мечты о ВеликобританииВторая часть «Генриха IV» написана, вероятно, в 1598 г., потому что судья Сайленс упоминается уже в 1599 г. в комедии Бена Джонсона «У каждого человека свои причуды». Хотя это скорее драматизированная хроника, чем драма, но она отличается той же богатой, поэтической силой, как первая часть. В серьезных местах поэт придерживался здесь ближе истории и, конечно, не его вина, если серьезные герои вышли менее интересными. В комических эпизодах, занимающих довольно обширное место, Шекспиру удался художественный фокус – вывести снова Фальстафа таким же интересным и забавным. Он одинаково достоен удивления в своих отношениях к верховному судье и к трактирщицам; он так же величественен в качестве вербовщика, как и в качестве гостя у мирового судьи Шеллоу в деревне. Шекспир присоединил к нему, отчасти в виде товарищей, отчасти ради контраста, обоих жалких провинциальных судей, Шеллоу и Сайленса. Фигура первого – настоящее чудо искусства. Он весь соткан из глупости, тупости, щегольства, беспутства и старческого слабоумия. Однако в сравнении с бесподобным Сайленсом он кажется гением. По-видимому, Шекспир срисовывал здесь, как в первой части, с современных моделей. Другой новой забавной фигурой, нашедшей тотчас, подобно Фальстафу, целый ряд подражателей среди второстепенных драматургов того времени, является хвастливый Пистоль, швыряющий направо и налево выспренными цитатами. Его шутовская аффектация в высшей степени комична. Шекспир осмеивает в его цитатах патетический стиль прежних трагиков, возбуждавший его отвращение. Если Пистоль восклицает: «Вьючные лошади и тощие, изнеженные азиатские клячи, которые не пройдут более тридцати миль в день, будут равняться с Цезарями и с Ганнибалами», то Шекспир пародирует здесь трагедию Марло «Тамерлан», где говорится: «Эй вы, откормленные азиатские клячи, разве вы можете в день пробежать больше 20 миль?»
Пиля пародируют слова Пистоля, обращенные к трактирщице: «Так ешь же и толстей, моя прекрасная Каллиполис».
В пьесе Пиля «Битва при Алькасаре» Мулей Магомет приносит своей супруге кусок мяса на острие шпаги и восклицает: «На, держи, Каллиполис, питайся и не томись больше!»
Но центральной фигурой в комических эпизодах является все-таки Фальстаф. Растолстевший рыцарь никогда не был так остроумен, как в той сцене, когда он говорит верховному судье, намекнувшему ему на его почтенный возраст: «Лорд, я родился около трех часов пополудни, с белыми волосами и с несколько кругловатым животом; что же касается до голоса – я надорвал его криком и усердным пением антифонов. Далее доказывать мою молодость я не намерен; я стар только суждением и разумением, а угодно кому выпрыгать у меня тысячу марок, – пусть только вручит мне деньги, и я дам ему знать себя». Пьеса распадается на мелочи, но каждая из этих мелочей – бесподобна. Возьмите для примера монолог короля Генриха, открывающий третье действие, это поэтическое и глубокомысленное воззвание ко сну. Здесь встречаются следующие строки:
О глупое божество, зачем же укладываешься ты с подлым простолюдином на гадкую постель и бежишь от королевского ложа, как от часового футляра или набатного колокола? Ты смыкаешь глаза юнге на вершине высокой мачты; ты укачиваешь его чувства в колыбели бурного моря, когда бешеные ветры, схватывая ярые валы за макушки, взъерошивают их чудовищные головы, взбрасывают их к черным тучам с таким ревом и шумом, что и сама смерть пробудилась бы! Пристрастный сон, ты даруешь успокоение промокшему юнге в такие жестокие мгновения и отказываешь в нем королю в самые тихие, безмолвные часы ночи, когда все зовет тебя. – Спите же, счастливые простолюдины! Покой бежит от чела, увенчанного короной.
Вообще со второй части король, волнуемый заботами и грозящей смертью, особенно глубокомыслен. Кажется, все, что он говорит, и все, что ему говорят, написано поэтом на основании собственного серьезного жизненного опыта, написано для тех людей, которые пережили и передумали то же самое. Вся первая сцена третьего действия интересна и великолепна. Здесь король высказывает свое геологическое сравнение, выражающее символически историческую изменчивость явлений. Когда он вспоминает с грустью предсказание низложенного Ричарда II, что люди, помогшие ему взойти на престол, так же изменят ему, и заявляет, что это предсказание теперь сбывается, Уоррик отвечает в глубокомысленной реплике, поразительной для того времени, что исторические события подвержены, по-видимому, известным законам. В жизни каждого человека много такого, что необходимо вытекает из прошедшего. Если обсудить как следует все факты, обусловливающие то или другое событие, то нетрудно было бы предсказывать будущие события. На это король отвечает с не менее поразительной философской глубиной:
«Так это все необходимости? Примем же все это за необходимость».
Но самая глубокомысленная, пессимистическая реплика принадлежит королю в конце четвертого действия в тот момент, когда он, страдая смертельной болезнью, узнает об усмирении мятежа. Он жалуется на то, что счастье приходит всегда пополам с горем и пишет свои прекраснейшие вести отвратительнейшими словами, что жизнь подобна пирушке, для которой недостает либо яств, либо аппетита.
С того момента, когда король умирает, поэт обращает все свои силы на то, чтобы изобразить в лице его великого сына идеал английского короля. Во всех прежних исторических драмах короли обладали большими недостатками. Шекспира вдохновляла задача нарисовать образ безупречного короля.
Пьеса «Генрих V» – патриотический панегирик в честь этого национального идеала. В пяти хоровых песнях, служащих как бы вступлением к пяти действиям, звучит похвальный гимн, являющийся самым лучшим образцом героической лирики Шекспира. В общем пьеса скорее поэма в диалогической форме, в которой нет ни драматической техники, ни драматического развития, ни драматического конфликта. Это – английский «энкомий», вроде «Персов» Эсхила. В смысле поэтического произведения драма не выдерживает сравнения с двумя предшествующими пьесами, которые она дополняет. Эта патриотическая драма написана для английских патриотов, а не для всего мира.