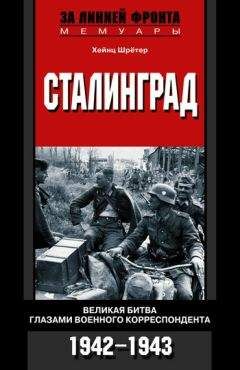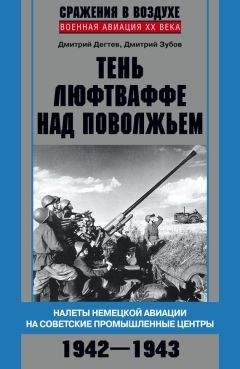Какая-либо часть, пройдя долгий путь, хотела бы отдохнуть и согреться, но не могла этого сделать и поэтому брела дальше. После того как деревня была занята войсками в сороковой раз, ее уже нельзя было назвать деревней.
Следовало бы рассказать побольше о том, о чем мечтали тогда солдаты, но рамки книги не позволяют этого. Достаточно лишь сказать, что люди мечтали о покое, сне и хлебе, мечтали найти где-нибудь теплое помещение, закрыть за собой дверь, стянуть с себя свои лохмотья, съесть, не торопясь, целую буханку хлеба и рухнуть на постель – на неделю, а то и больше.
Сырость, холод, голод, отсутствие какого-либо крова и русские танки гнали войска дальше. Деревенские дороги выглядели как баррикады, заваленные машинами, вокруг домов и машин бродили солдаты, пытаясь найти хоть какой-нибудь провиант. Крали в открытую. Хлеб ценился больше всего. Если бы расстреливали каждого, кого заставали за кражей куска хлеба, то армия через неделю лишилась бы пятой части своего личного состава.
Иногда люди снимали рукавицы и засовывали пальцы в рот, чтобы согреть их, а кто еще более-менее держался на ногах, совершал легкие пробежки по кругу. Последние тридцать три раненых прибыли на сборный пункт, находившийся южнее Гумрака. Сердце обливалось кровью, когда подошли люди в том виде, в каком им пришлось покинуть фронт и отступать. А на сборном пункте стоял последний самолет, предоставлявший последний шанс выжить. Неудивительно, что у дверей образовалась давка, люди напирали, толкались, теснили друг друга, пытаясь во что бы то ни стало войти в самолет. Салон самолета вместил сначала шестнадцать человек, после того как они разместились, вслед за ними протиснулись еще восемь, а снаружи одиноко стояли на морозе еще девять человек. В самолете люди группировались, ложились на пол, сидели на корточках, цеплялись за все, за что только можно было, лежали буквально друг на друге, и все равно снаружи оставались еще шесть человек. Но они должны были улететь, поэтому из самолета стали выбрасывать носилки, канистры, снимали шинели, прикрывавшие раны, заползали в кабину пилота, занимали кормовую кабину – теперь снаружи остались три человека. Тогда выбросили боеприпасы и перевязочные материалы, после чего войти смог только один человек – теперь салон был забит людьми до самого потолка, и возникал вопрос, сможет ли самолет взлететь с таким грузом? У пилота даже не было возможности встать со своего кресла, и уже больше никто не мог войти в самолет. Предпоследний солдат, разместившись на трех своих товарищах, стоял у двери, которая уже не закрывалась. Даже если бы можно было содрать краску со стен, снять дверь с петель, выбросить рацию и удалить перегородки, места для одного все равно не было бы. В снегу, ровным слоем покрывшем площадку вокруг самолета, лежал тридцать третий раненый с простреленными коленями, а вокруг него весело искрился лед.
Знаете ли вы, что значит в двадцать два года получить последний шанс выжить после того, как в течение многих недель не было возможности вымыться, а во рту не было ничего, кроме куска черствого хлеба, сырой репы и подогретого талого снега – и все это при ледяном граде, тридцатипятиградусном морозе и без какой-либо надежды выжить. Нет, вы не знаете, что это значит, поэтому вы не сможете также до конца оценить поступок ефрейтора из Изерлона, стоявшего у двери на трех своих товарищах. Он выпрыгнул из самолета, подошел к последнему раненому, остававшемуся на снегу, и сказал: «Дружище, у меня перебиты обе руки, но ты не можешь ходить». Из самолета вылезли еще несколько человек, подхватили его под руки и положили поперек голов и туловищ других солдат, чтобы снова оказаться в невыносимой тесноте. Не спрашивайте, что люди при этом кричали, что при этом испытывали, – все это потонуло в реве моторов; никто не мог слышать, что говорил тот, кто остался лежать на снегу, и он не понимал, что ему говорили остальные. Самолет был переполнен настолько, что пришлось взять поясной ремень, закрепить его на замке двери и двум солдатам держать, чтобы дверь не открылась во время полета.
Они взлетели – не будем говорить о том, как это происходило. Стоит только упомянуть последний поступок, совершенный фельдфебелем эскадрильи транспортных самолетов, находившимся за штурвалом самолета. В сугробе на аэродроме Гумрака сидел один-единственный солдат, воротник пальто высоко поднят, поверх намотан платок, голова чем-то покрыта. Он провожал взглядом стартовавший самолет. Не было известно второго такого случая, чтобы самолет совершил круг почета из-за одного солдата, при этом пилот сказал, что он еще ни разу не видел более одинокого солдата, чем этот ефрейтор, который сидел в снежном сугробе и, подняв голову, смотрел вслед удалявшемуся самолету. Бинты на руках стали коричневыми от крови, и если бы он захотел махнуть рукой, то он не смог бы этого сделать.
Командир смотрел на горстку своих людей, оставшихся в живых, их оказалось двадцать шесть из прежних четырехсот пятидесяти. После этого майор посмотрел на мертвые тела погибших утром. Они лежали рядом друг с другом, восковые лица были обращены в пустое пространство над ними.
Двадцать шесть солдат, оставшихся в живых, были последними людьми майора. Утром они еще были в состоянии отразить атаку, но боеприпасы закончились. Генерал Штемпель за два дня до этого осмотрел позиции и сказал майору: «Я не думаю, что из всей армии способны стрелять более десяти тысяч человек и их количество уменьшается на каждой позиции, при этом войска не имеют возможности обороняться, а если такой возможности уже нет, то с этим надо кончать».
Слова эти были произнесены два дня назад, а три года назад майор слышал слова Гитлера в Мюнхене: «То, чем нам каждый раз придется жертвовать в отдельных случаях, – не важно, это скоро забудется. Решающим была и будет победа».
Слова Гитлера и слова генерала еще раз пронеслись в голове майора.
«Если нет возможности обороняться, то с этим надо кончать». Они не могли больше обороняться, значит…
Солдаты встали полукругом вокруг командира полка и очень хорошо поняли то, что он им сказал: «До армии нам не добраться, дивизия погибла, а полк – это мы, которые остались последними из всей армии. Вы приносили присягу и говорили: «…если необходимо, буду бороться до смерти». Патронники ваших пулеметов пусты так же, как и ваши желудки. Я освобождаю вас от присяги, каждый может делать то, что хочет. Теперь Германия поймет, можно ли обойтись без нас».
После этого командир пожал всем двадцати шести солдатам руки, глядя при этом каждому в глаза. Людям казалось, что командир плачет, но слезы могли навернуться на глаза и из-за ледяного ветра. Затем он поднял руку к фуражке, отдавая честь сначала горстке своих людей, потом девяти лежавшим на снегу солдатам, восковые лица которых были обращены в никуда.