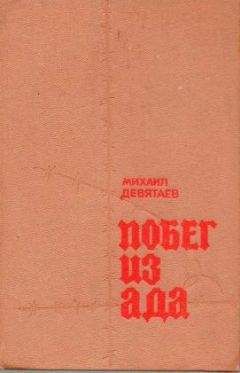Верзила презрительно сжал губы. Гиммлер не унимался:
— Имейте в виду, искренность — весьма ценная и редкая черта, которую мы еще не всегда умеем ценить.
— Согласен, но она полезна далеко не во всех случаях, — ответил Скорцени. Было странно видеть, как эсэсовец в звании капитана так уверенно и независимо держит себя в присутствии рейхсфюрера СС. Только со временем нам стало известно, что Скорцени имел особые полномочия Гитлера.
— Ты хотел бы быть на воле? — ни с того ни с сего спросил меня Гиммлер.
Свобода? Из рук Гиммлера? По горькому опыту других я уже знал, что гестаповцы и эсэсовцы даром никогда ничего не дают. Они даже могут выпустить меня, чтобы затем организовать пропагандистский балаган: отпетого, мол, преступника, большевистского фанатика перевоспитали национал-социалистские идеи, дисциплина и труд.
— Я хочу разделить судьбу своих соотечественников. Кроме того, до окончания войны мне все равно где работать на великую Германию, — отчеканил я.
Визит Гиммлера не закончился благополучно для нашего блока. Уже когда этот палач и его свита миновали наш строй, один из узников, очевидно впавший в полное отчаяние, закричал:
— Господин министр? Разрешите обратиться!..
Гиммлер остановился.
— Я попал сюда по ошибке и страдаю безвинно. Прошу вас, разберитесь…
Узник заплакал.
Переводчик разъяснил Гиммлеру его слова. Рейхсфюрер скривился, словно от зубной боли, и вдруг сердито заорал:
— Страдаешь? По ошибке? Свинья! Гестапо не ошибается! В Освенциме не страдают, а искупают свою вину перед рейхом! — И, разъяренный, пошел дальше.
Гесс и Ауфмайер поспешно записали номер узника.
После посещения нашего блока Гиммлер зашел в центральную канцелярию, затем отправился на склад награбленных вещей. После этого Гиммлер и его свита отправились в Биркенау посмотреть на работу крематориев. Два крематория осмотрели поверхностно, наспех, а в третьем задержались — туда прибыло «сырье», и Гиммлер заинтересовался циклом превращения людей в пепел. Он сделал замечание, что процесс удушения продолжается чересчур медленно, и посоветовал не жалеть циклона.
Как выяснилось, Гиммлер остался недоволен работой команды «Канада», плохим хранением имущества, отобранного у обреченных и уничтоженных узников. Он приказал построить новые склады и обеспечить сохранность всех без исключения вещей вплоть до детских колясок и очков. «Все это необходимо Германии», — сказал Гиммлер.
Гесс оправдывался тем, что железнодорожный транспорт не успевал вывозить все вещи, по этой причине и приходилось складывать их прямо на земле под открытым небом. Недоволен остался Гиммлер и темпами строительства новых крематориев.
Кроме того, он дал указание сосредоточить всех штрафников в одном блоке, чтобы они «не били баклуши» по всем баракам и чтобы в отношении их применяли самый суровый режим, как к зондербегандлунгам[60]. Гесс заверил, что указание будет выполнено, для этого в лагере и существует одиннадцатый блок[61].
Вечером Гесс в своем коттедже дал банкет в честь высоких гостей. Той же ночью Гиммлер отбыл в Берлин.
Мы оживленно обсуждали этот визит Гиммлера. К нам пришли даже из других блоков посмотреть на узника, который разговаривал с самим Гиммлером и остался жив.
— Ты молодчина, Малыш! — сказал Жора после ухода гостей. — Как я волновался за тебя! Наверное, ты в самом деле родился в рубашке.
Этим же вечером к нам пришел Антоныч. Он сказал, что визит Гиммлера не сулит ничего хорошего; репрессии, безусловно, усилятся. Удачу же Орленка нужно использовать. Теперь его не тронут ни Ауфмайер, ни Пауль. Антоныч посоветовал нам завтра поговорить с блоковым, не согласится ли тот за хорошую плату снять с меня мишени штрафника.
— Железо надо ковать, пока оно горячо, — сказал он. — Прозондируйте почву, намекните о сигаретах, поторгуйтесь, больше десяти пачек не предлагайте, предел — двадцать. И не особенно заискивайте, сейчас этот тип нам не так уж страшен! — напутствовал Антоныч.
На следующий день, несмотря на все наши уговоры, Вацек отправил дядю Ваню на работу в штрафную команду.
— Пацан — дело другое, — сказал Плюгавый. — А с остальными штрафниками церемониться нечего: скоро им всем труба!
Мы и сами чувствовали, что надвигается гроза. Забегая вперед, скажу, что 24 и 25 июля в лагере были проведены массовые «селекции», в результате которых несколько тысяч узников отправили в распоряжение Молла.
И вот в это утро, когда нам не удалось отстоять дядю Ваню, после отправки арбайтскоманд нас продолжали держать в строю. Через час появился Ауфмайер. По его приказу из блока принесли дубовый табурет, возле которого стоял Янкельшмок и еще три холуя с увесистыми дубинками в руках. Ауфмайер произнес речь. Из нее явствовало, что его настойчивая работа по перевоспитанию узников не пропала даром, что рейхсфюрер и лагерфюрер остались довольны порядком в блоке. Но нашелся один негодяй, который чуть не испортил всю обедню.
— Сейчас, — объявил блокфюрер, — этот клеветник получит сто палок.
Несчастного поляка, осмелившегося обратиться с жалобой к самому рейхсфюреру, вывели из строя и потащили к табурету. Он рыдал, судорожно, как астматик, хватая ртом воздух. Его опухшее от голода водянистое лицо побелело. Все понимали, что даже здоровый, сильный человек не может выдержать больше пятидесяти ударов, какие обычно раздавал Янкельшмок. Узнику предстояла мучительная смерть. На наших глазах совершалась еще одна дикая расправа, а сколько их было и сколько еще будет!
Как цепи во время обмолота, засвистели в воздухе дубинки. Минут пятнадцать тело обреченного корчилось и конвульсивно содрогалось. Когда счет перевалил за сорок, он был уже мертв. Но его продолжали бить до тех пор, пока Ауфмайер не досчитал до ста.
Убитого отнесли в туалетную, после чего Ауфмайер еще долго разглагольствовал о порядке, нарушать который не смеет никто. «Приказ есть приказ!» — сказал он в заключение.
Ауфмайер ушел, приказав «закалять гефтлингов спортом». Главные придурки отправились отдыхать. Жора, как ответственный за уборку, отобрал восемнадцать человек, и мы ушли в барак. Остальные остались на площадке на «тренировке» под руководством Янкелыпмока.
Уборку мы к полудню закончили, но не выходили из блока, создавая видимость работы. Вообще уборщиков придурки никогда не выгоняли ни на какие «занятия». Поэтому мы, восемнадцать подпольщиков, были в привилегированном положении по сравнению с остальными узниками. Только двое наших товарищей — Дядя Ваня и Гриша Шморгун — по-прежнему находились в штрафной команде. Для них мы оставляли хлеб и баланду, «организованные» Жорой.