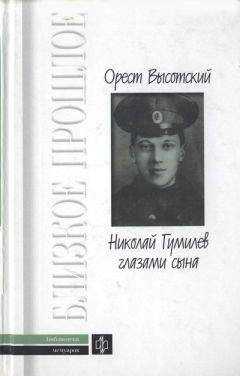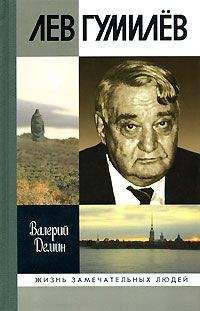А война продолжалась. Не было кавалерийских стычек, рейдов по тылам противника, опасных разведок, все стало тоскливо и скучно. Целую неделю приходилось сидеть в окопе на наблюдательном пункте, в блиндаже было холодно, с потолка капало на сколоченный из досок стол, по которому бегало несколько огромных крыс.
Трагедия «Гондла» была закончена и отослана в редакцию журнала «Русская мысль». Как обычно, напряжение, сопутствующее большой работе, сменилось приятной расслабленностью и желанием отдыха.
В конце января Гумилев получил командировку в Окуловку Новгородской губернии на заготовку сена для кавалерийской дивизии. По пути он заехал в Петроград, зашел к Лозинскому. Друзья целый вечер провели вдвоем, Николай Степанович читал еще не оконченную поэму «Мик», Михаил Леонидович, сидя в кресле, иногда вставлял свои замечания. Утром Гумилев на один день поехал в Слепнево, где жила его мама с Левушкой. В доме было тихо, уютно, Левушка играл на полу, сидя на леопардовой шкуре, которую его отец привез из Абиссинии.
На следующий день Гумилев, подходя к Варшавскому вокзалу, не заметил генерала и был посажен за то, что не отдал честь, на ближайшую гауптвахту. Через сутки Гумилев уже был в Окуловке. Он поселился в избе вместе с интендантом Никитиным, маленьким седеньким человеком, который страшно много курил. Никитин получал почту, читал без разбора: то «Биржевые ведомости», то «Петроградскую газету», то «Речь» — и очень нервничал, встречая сообщения о забастовке на Путиловском заводе, о выступлении в Государственной Думе депутата с требованием сократить военные расходы.
Приобретя лыжи, Гумилев в свободное от службы время отправлялся охотиться на зайцев. А когда начиналась метель, Николай Степанович, лежа на кровати, читал книгу философа Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Ему нравились высказывания автора о церковности: «Вот имя тому пристанищу, где усмиряются тревоги сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум».
Вместе с письмами друзья прислали из Петрограда номера тоненького журнальчика «Рудин»; на обложке был силуэт молодого человека с прической и галстуком прошлого века. Издавал журнал отец Ларисы Рейснер, который хотел, по его выражению, «первым бросить камень в толстую рожу кого-то, кто воюет и сидит в Думе». Журнал был открыто оппозиционный, направленный против войны. Александр Блок так отозвался об этом издании: «В 1915–1916 гг. Рейснеры издавали в Петербурге журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый. Мамаша писала под псевдонимом рассказы, пропахнувшие „меблирашками“. Профессор („Барон“) писал всякие политические сатиры, Лариса — стихи и статейки. Злые карикатуры на Бальмонта, Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу „Красы“ Ясинского и „Биржевки“. Лариса (Л. Храповицкая) о грязи и порнографии Брюсова. Отвратительная по грязи карикатура на Струве».
Можно себе представить, как воспринял этот журнал георгиевский кавалер, русский патриот Гумилев, читая памфлеты, написанные девушкой, в которую он был влюблен. Нежная Лаик на самом деле оказалась волчицей Лерой! Даже не просмотрев журнал до конца, Гумилев велел денщику бросить его в топящуюся печку. Остался противный осадок, точно он прикоснулся к чему-то липкому и мерзкому. Политикой Гумилев не интересовался, мало что в ней понимал, но грубое оскорбление в печати уважаемых поэтов его коробило, коробили и призывы к поражению России в войне.
9 февраля он написал открытку:
«Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще, что не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют ли мне другого полковника или отправят в полк, но, наверно, скоро заеду в город. В книжн. Маг. Лебедева, Литейный (против Армии и Флота), есть и Жемчуга, и Чужое небо. Правда, хорошие китайцы на открытке? Только негде писать стихотворенье.
Иск. Пред. Вам
Н. Гумилев».
Тон открытки говорит о том, что дым любви рассеялся или поэт поборол эти чувства. Лариса Михайловна отнеслась к охлаждению иначе. Вот ее последнее письмо к Гумилеву: «В случае моей смерти все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало, и такое похожее на любовь. И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая — благодаря Вам — окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог. Ваша Лери».
Через год, в 1918-м Лариса Рейснер стала членом РКП(б) и женой заместителя морского комиссара Федора Раскольникова (Ильина). Вместе с мужем она участвовала в гражданской войне, сама была комиссаром разведывательного отряда, продолжая заниматься и литературой. Л. Д. Троцкий говорил, что Рейснер соединила в себе «красоту олимпийской богини, тончайший ум и мужество воина».
О свержении царя Гумилев услышал в Окуловке. Он отнесся к известию с чувством человека, видящего вместо своего привычного дома груду развалин. На следующий день Гумилев поехал в Петроград, хотел повидать друзей. Улицы были оцеплены войсками и студентами с большими красными бантами на шинелях и тужурках. Извозчиков не было видно, трамваи то шли, то надолго замирали, и Николай Степанович позвонил по телефону жене, сообщил, что не может добраться до дому и поэтому возвращается в Окуловку.
Вскоре Гумилев заболел и очутился в 208-м Петроградском лазарете. На этот раз он не рвался в полк. Святые Пантелеймон и Георгий не являлись ему.
На больничной койке, глядя в тусклое окно, он вспоминал прошлое. Преследовала мысль, что он неудачник: мечтал о славе, а остался всего лишь прапорщиком разваливающейся армии, хотел достичь вершин в поэзии, но и сегодня пребывает где-то в тени Блока. И любовь тоже обманула, не дала чувства настоящего счастья:
Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;
Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.
Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?
С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.
Как только жар прекратился, Гумилев упросил докторов отпустить его в Царское Село. Георгий Иванов, приехав, застал друга в библиотеке, где на широком диване под клеткой с горбоносым какаду сидел Гумилев, худой и желтый после перенесенной болезни, закутанный в пестрый азиатский халат. Сейчас он мало напоминал недавнего блестящего гусара. Начались рассказы о беспорядках в городе, но Гумилев отмахнулся: он не читает газет и другим не советует. Потом стал говорить, что на войне страшно и скучно. Что там люди, безусловно, благородные и храбрые, но со слабыми нервами — в минуту опасности валились с коня.