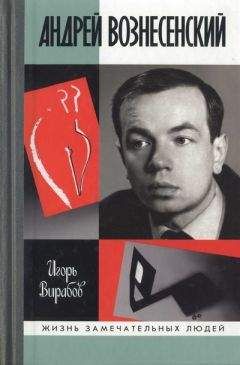Озадачивал Гинзберг, тогда еще не признанный классиком, не только своего отца — но и многих коллег, не склонных к эпатажу такого рода. Да, американцев могла смутить и манера чтения Вознесенского. Здешние поэты, как правило, читали стихи занудно и монотонно. Вознесенский, изящный и тихий, на сцене вдруг преображался, голос, руки — все вдруг взлетало, ходило ходуном, рубило, прорезало воздух. Ошарашенная публика сдавалась без сопротивления. И сам по себе феномен этот был любопытен американцам.
Случай же с Гинзбергом иной — он нарушал каноны приличий, всех без разбору, и делал это осознанно — ибо ничто не должно мешать его личной свободе. А этот феномен был любопытен молодым советским поэтам, мечтавшим улизнуть от партконтроля. И одни, и вторые открывали что-то новое для себя. И Вознесенский лихо закручивал в «Нью-Йоркских значках»: «Обожаю Гринвич Виллидж / в саркастических значках! / Это кто мохнатый вылез, / как мошна в ночных очках? / Это Ален, Ален, Ален! / Над смертельным карнавалом, / Ален, выскочи в исподнем! / Бог — ирония сегодня».
Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закиснуть куликами
буржуазовых болот!
А вот что Вознесенский вспоминал про себя, Америку и Гинзберга:
«Первый мой вечер за океаном состоялся в Нью-Йорке в „Таун-холле“. Это вообще был первый вечер русского поэта в американском театре, как таким же первым был вечер в парижском „Вье Коломбье“, таким же первым был вечер на Томском стадионе и в рижских Лужниках. Это никакой не плюс и не минус, просто так случилось — кому-то суждено начинать…
Председательствовал Роберт Лоуэлл. Переводы читали Оден, Кьюниц, Билл Смит… Они сидели на сцене. В зале я заметил поблескивающие очечки Аллена Гинсберга (поэт предпочитал писать его фамилию через „с“. — И. В.).
— Аллен, вали сюда на сцену, — пригласил я по беспардонной московской привычке. Заминка. Поэты на сцене посовещались, как хоккеисты, и выслали ко мне делегата.
— Андрей, если он вылезет на сцену, тогда мы все уйдем.
— Ну, что же, если его не пустят на сцену — я уйду. Я же его уже пригласил.
Ситуацию спас Аллен. Он подошел к сцене, по-буддийски сложил ладони, поклонился, поблагодарил.
— Из зала лучше тебя слушать — не со спины.
И, усмехнувшись, сел на место.
Я был потрясен. Неужели и у них так же, как у нас, ревность и противостояние? Но увы, если б это только касалось противоречий между университетской и битнической поэзией.
Полуграмотные охранители, и туземные, и наши, эпатированные непереводимыми терминами „fuck“ и „shit“, введенными поэтом в тексты, не хотят замечать, как в глубинах гинсбергского бунтарского сленгового, сильно ритмизированного духовного стиха просвечивает классическая культура У. Блейка, его Бога, Э. А. По, Эзры Паунда… Сейчас, когда он носит смокинг (правда, как он оправдывается, купленный по скидке), за ним стоят стихия нынешней речи, современность. Из русской поэзии он знает не только Мандельштама, но и Клюева. (Правда, большинство битников интересуются лишь загадкой отношений Клюева и Есенина)…»
Откуда взялось слово «битник»? Имя движению дала фраза Керуака: «This is a beat generation» («Это — разбитое поколение»). Хотя Керуак, автор книги «В дороге», говорят, имел в виду не «разбитость», а нечто близкое «beautitude» — блаженству. И не надо путать «beatnik» и «beat» — это совсем разные вещи! Гинзберг уверял, что слово «битник» появилось впервые в колонке сплетен San Francisco Chronicle в апреле 1958 года: журналист Херб Кейн написал, что «битник» — это как «спутник», так же «за пределами этого мира». Керуак, впрочем, предпочитал слово «хипстер», происходившее от «hip» (ляжка). А что касается «истоков» битничества, Гинзберг, помимо Уолта Уитмена, Эзры Паунда, Уильяма Карлоса Уильямса и французских сюрреалистов, поминал добрым словом и «старую традицию русского авангарда — Есенина, Маяковского». Да, и еще он начитался Достоевского и любил представлять себя князем Мышкиным.
Гинзберг сочинял мантры: в 1966 году — для магического прекращения вьетнамской войны, через три года — для изгнания духов из Пентагона. Менять мир думал психоделически. Вот отчего в новом веке, много лет спустя, станет всюду шамански читать его «Сутру подсолнуха» небезызвестный Натан Дубовицкий, автор книги «Околоноля»? А, видно, оттого что духи разные никак недоизгонятся.
Вознесенского привлекала в Аллене еще и человеческая отзывчивость, готовность помочь, кому трудно. Виктора Соснору, прилетевшего на операцию к здешним глазникам, приютил Гинзберг. «Помню, в Лондоне, — вспоминал Вознесенский, — во время знаменитого чтения в „Альберт-холле“, первого мирового съезда поэтов, советский посол запретил мне читать стихи. Тогда Аллен читал мои стихи вместо меня. А я молча сидел на сцене. В другой раз, когда меня уж очень дома прижали, он пошел пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: „Дайте выездную визу Вознесенскому“».
К концу жизни (Аллен Гинзберг скончался 5 апреля 1997 года), когда мир вдруг перевернулся и стал непохож на тот, прежний, нотки растерянности промелькнут и в словах этого психа и бунтаря: «Мы были заинтересованы в изменении культуры, а не в воздействии на политику, надеясь, что за культурными переменами последуют политические. Может, это было ошибкой, потому что нынешняя Америка во многом хуже, чем когда-либо».
Вместе с Вознесенским Гинзберг выступал по всему миру, помимо американских городов, в Мельбурне, Париже, Берлине, Сеуле, Риме, Амстердаме… Последний совместный вечер в Нью-Йорке они провели в 1990-х в пользу пакистанских беженцев. Аллен пел «Джессорскую дорогу». Вознесенский перевел ее. «Горе прет по Джессорской дороге, / испражненьями отороченной. / Миллионы младенцев в корчах, / миллионы без хлебной корочки… / А в красивом моем Нью-Йорке, / как сочельниковская елка, / миллионы колбас в витринах, / перламутровые осетрины…» Тогда, в девяностых, Вознесенский запишет, как крик души: «Боже мой, неужели это написано не сегодня и не о нашей стране?»
В Москве устроить его вечер не удавалось. Времена менялись, но Вознесенский не находил нового объяснения, — как прежде российские ретрограды всегда были солидарны с американскими в отношении политики и слова «fuck». Гинзберг картинно падал на могилу Маяковского, но это никого не впечатляло. Когда российский ПЕН-клуб наконец добыл средства и договорился о его вечере в Москве, пришла весть о смерти Гинзберга. Андрею Андреевичу, вместо того чтобы встречать друга в аэропорту, пришлось писать реквием по Аллену.