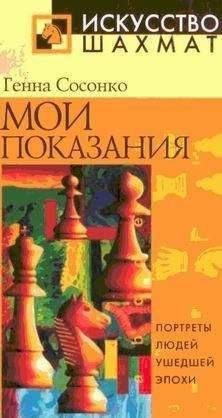Такая характеристика его творчества чрезвычайно задела Ботвинника. Хотя и позитивная, она выделялась в сплошном панегирическом хоре, раздававшемся со страниц всех изданий того времени и объявлявшем Ботвинника прямым наследнико м Чигорина и Алехина (но и сейчас, годы спустя, она, как мне кажется, очень точно и объективно рисует портрет одного из самых значительных чемпионов за всю историю игры). Однако прежде чем ответить самому, Ботвинник дал возможность выступить Романовскому и Рохлину. Если первый ограничился в основном теоретическими и историческими экскурсами, то Рохлин обрушил совсем другие аргументы: «На протяжении многих лет Левенфиш не смог увидеть в творчестве Ботвинника и других молодых советских мастеров того принципиально ценного и оригинального, что открывает в наши дни новую главу в истории шахмат... Не случайно мы подчеркиваем научный подход к шахматам как отличительную черту советской шахматной школы. В этом отношении Ботвинник, как новатор шахматной мысли, подобно многим другим деятелям советской культуры, хорошо помнит замечательные слова товарища Сталина о науке, которая "не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики"». Вслед за этим последовали реплики и других, менее известных. Околошахматная грязца была всегда, во все времена, но в те нешуточные она приобрела особый, зловещий оттенок.
Последнее слово произнес сам чемпион в статье «По поводу трех выступлений» с подзаголовком, типичным для тех времен «В порядке критики и самокритики». Он писал, что «не о "проблеме Ботвинника" должна идти речь, а о советской шахматной школе». И далее: «Советские мастера, перед которыми была поставлена нашей партией, советским народом серьезная цель - завоевание первенства мира, могли ли развивать подобные "творческие" тенденции? Конечно, нет. Мы должны были побеждать иностранных мастеров, и побеждать наверняка... Гроссмейстер Левенфиш игнорирует эти факты, игнорирует и советскую шахматную школу — очевидная и принципиальная ошибка рецензента».
После аргументов такого калибра, хорошо знакомых Ахматовой и Пастернаку, Шостаковичу и Прокофьеву, какие-либо дискуссии исключались, и можно было ожидать только последствий. В обществе, где в жертву понятиям абстрактным приносились живые существа, реакция могла последовать самая суровая; участь Дефо, стоявшего триста лет назад за свои политические памфлеты в Лондоне по часу в день у позорного столба, могла бы показаться завидной. К счастью, дело кончилось только проработками, и было удивительно, что против него не были предприняты более суровые меры.
Последние годы Левенфиша прошли в работе — писании статей и книги — и в нужде. Пришла старость, но жила еще боль от прожитой жизни. За все эти годы он закалился и как бы окаменел и тоже мог бы сказать: «Я здоров, пока сердце выдержало даже то, чего я не описал».
В 1961 году Борис Спасский играл в первенстве СССР. В один из последних дней января в подземелье московского метро он увидел Левенфиша: «Постаревший, бледный, как привидение, он шел, держась руками за лицо. "Мне только что удалили шесть зубов", — только и мог сказать он...»
Через несколько дней Григорий Яковлевич Левенфиш умер.
Вспоминая московский турнир 1936 года, Ботвинник писал, что стояла такая сильная жара, что он переутомился и страдал от бессонницы. Но от бессонницы страдал не только Ботвинник. Не спал и Ласкер: живя в Германии, он привык засиживаться допоздна в шахматных кафе, в Москве же такой образ жизни был невозможен, а на склоне лет нелегко менять привычки. Довольно часто к нему заходил Левенфиш, и они проводили долгие вечера за шахматами или в разговорах. Иногда, уже глубокой ночью, Ласкер предлагал: «Пойдемте пить кофе». — «В Москве? В это время?» — пытался вернуть его к реальности собеседник. «Пойдемте, пойдемте, я знаю местечко, — доктор заговорщицки улыбался, — буфет на Киевском вокзале открыт до трех часов ночи».
Два человека с характерной внешностью идут спящим городом. Два символа времени, проживших большую часть жизни в городах, названия которых олицетворили историю 20-го века: Берлин и Петербург—Ленинград. Через три года начнется Вторая мировая война. Еще двумя годами позже Ласкер умрет в Нью-Йорке. Он никогда больше не увидит страну, в которой прожил почти всю жизнь. Левенфиш переживет его на двадцать лет и умрет в Москве. Несмотря на погромы, инфляции, войны и революции, несмотря на жестокие режимы, установившиеся в странах, где они жили, оба они перешагнут отмеренную границу библейского возраста - семидесяти лет.
Но сейчас они еще не знают этого.
Они пьют кофе. Они разговаривают по-немецки.
Москва. Киевский вокзал. Ночь. Жаркое лето 1936 года.
В августе 1991 года, когда Ботвиннику исполнилось восемьдесят, он был в Брюсселе. Спустя несколько дней он приехал в Амстердам. Туристское лето еще не кончилось, и такси продвигалось медленно по направлению к центру, пока окончательно не остановилось у Монетной башни.
Посмотрите, Михаил Моисеевич, — сказал я, — налево цветочный рынок, а прямо на углу — отель «Карлтон». Когда Эйве исполнилось восемьдесят лет, здесь был большой прием. Макс так замечательно выглядел, кто бы мог подумать, что уже через несколько месяцев...
Геннадий Борисович! — Ботвинник сидел рядом с шофером и смотрел прямо перед собой. — Я был в гостинице «Карлтон» в 1938 году. Вас тогда еще на свете не было. На следующий день после окончания АВРО-турнира мы пили там чай с Алехиным и договаривались об условиях матча на первенство мира... М-да, дела давно минувших дней, — он вздохнул, — преданья старины глубокой.
Машина тронулась.
Август 2000
Часть 2 ДОСТОВЕРНОЕ ПРОШЛОЕ
Docendo discimus (В.Багиров)
В 1960 году чемпионат Советского Союза по шахматам проходил в Ленинграде. И какой чемпионат! Начав перечислять имена: Смыслов, Бронштейн, Петросян, Геллер, Тайманов, Спасский, Корчной, Полугаевский, Авербах, Симагин... трудно остановиться.
Я учился тогда в последнем классе школы, но в феврале мне было не до уроков: почти каждый день я бывал на турнире. Зал, вмещающий около тысячи человек, был полон. Болели за земляков, но Спасский и Тайманов выступали не очень успешно, и взоры ленинградцев были устремлены на Корчного. Сила его игры была известна всем, но первенство страны он не выигрывал еще не разу.
В 16-м туре Виктор встречался с дебютантом чемпионата, и все надеялись, что ему удастся выйти в единоличные лидеры. Черными Корчной переиграл своего соперника и получил большое преимущество. Кульминация нарастает. 27-й ход белых. Должен произойти размен ладей, и проходная пешка черных почти у призового поля. Неожиданно Корчной резко встает из-за стола и почти бегом покидает сцену. Появляется табличка: «Белые выиграли». Шум в зале, смех: демонстратор, конечно, просто перепутал. Но почти сразу выяснилось, что никакой ошибки нет: вместо того чтобы побить слоном ладью, Корчной взялся за другого слона, стоявшего на соседнем поле. Повертев в растерянности фигуру, он тотчас сдался. Невольный обидчик любимца ленинградских болельщиков — высокий черноволосый брюнет восточного вида — только разводил руками.