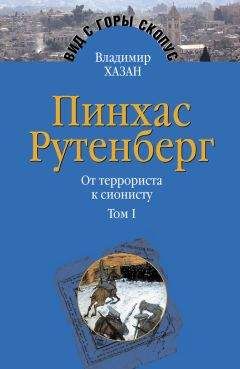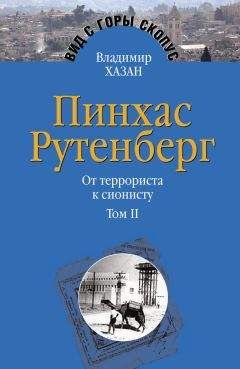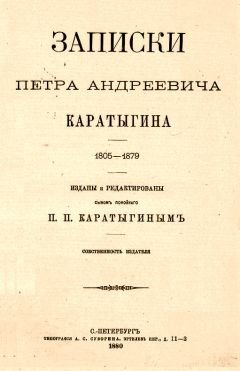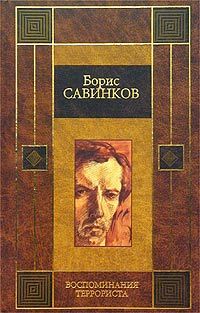Именно к Амфитеатрову отсылает Горький Е.П. Пешкову, вероятно обратившуюся к нему с просьбой разузнать адрес Рутенберга (письмо от 25 августа (7 сентября) 1912 г.) (Горький 1997-(2007), X: 105).
О том, что Амфитеатрову принадлежит своего рода посредническая роль в знакомстве Рутенберга с Жаботинским, мы еще скажем. Годы спустя, 17 августа 1932 г., писатель обращался к редактору рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруду с просьбой раздобыть адреса Жаботинского и Рутенберга (Абызов, Равдин, Флейшман 1997, II: 320), а до этого упоминал обоих в книге «Стена Плача и Стена Нерушимая» (первое изд.: Белград, 1930)10, где писал о том, что являлся
свидетелем, почти что очевидцем, как В.Е. Жаботинский и П.М. Рутенберг вели с поразительной энергией пропаганду организации 40-тысячного еврейского легиона и заставили еврейский капитал осуществить ее, несмотря на то, что они сами, – не знаю, богаты ли теперь, – но тогда были бедны, как две синагогальные крысы (Амфитеатров 1931: 43).
После Италии Рутенберг и Амфитеатров встретились в революционном Петрограде. Об их близких отношениях свидетельствует, например, такая фраза из дневника В. Амфитеатро-ва-Кадашева, сына A.B. Амфитеатрова, относящаяся к 26 октября 1917 г., т. е. ко времени, когда большевики захватили Зимний дворец, одним из защитников которого был Рутенберг:
О падении Зимнего я узнал лишь сегодня утром. Вчера вечером мы с ночевавшим у нас папой отправились в «Вольность»11, сидели там до выпуска. За это время шел непрерывный телефонный звон: звонил Рутенберг, что не может выбраться из дворца и приехать к нам ночевать, как условились утром… (Амфитеатров-Кадашев 1996: 493).
Следует думать, что в годы послереволюционной эмиграции Рутенберг и Амфитеатров не встречались и не переписывались – по крайней мере, никаких следов ни того, ни другого не сохранилось. В 1924 г. Амфитеатров вспомнил Рутенберга в связи с рассказом Л. Андреева «Тьма» (статья «Русские материалисты»):
«Тьма» возникла из приключения П.М. Рутенберга, сыгравшего некогда столь важную роль в развязке трагикомедии Гапона, а ныне благополучно орошающего Палестину иорданскими водами. Даже наружность «революционера» в «Тьме» написана с тогдашнего Рутенберга. Но кто знает сколько-нибудь последнего, что же общего может он изыскать между Рутенбергом и героем «Тьмы»? В «Тьме» Рутенберг – Андреев, если бы Андрееву случилось быть террористом и укрываться от сыщиков в публичном доме (Амфитеатров 1924: 3).
В Италии Рутенберг познакомился с писателем Андреем Соболем, который после бегства с Зерентуйской каторги в 1908 г. жил в эмиграции, и в частности в Италии. Об этом знакомстве мы судим по более поздней обрывочной записи в дневнике Рутенберга, принадлежавшей, судя по всему, не сохранившейся более пространной записи («Тогда в Италии встретил Андрея Соболя. Позже роман "Пыль”12. Все его мысли были тогда о России»). Сам А. Соболь о встрече с Рутенбергом, насколько нам известно, нигде не упоминал – скорей всего, она ему не запомнилась или не показалась важной или интересной. Зато запомнилась встреча в Сан-Ремо с другим революционером (Соболь примыкал к эсеровской партии) – Савинковым, о котором он писал как о «человеке поразительной яркости».
Я видел его в Италии в Сан-Ремо, в конце 1913 года, – рассказывал Соболь в очерке «Савинков», – когда в петроградском журнале «Заветы» печатался его роман «То, чего не было», когда в редакцию летели письма возмущения, тогда в Париже собирались подписи для коллективного протеста. Среди протестующих были и близкие его друзья, соратники и люди, которых он любил и ценил.
В тот день коллективный этот протест читался вслух. И, помню – на вопрос одного из присутствующих «Что же будет?» – он усмехнулся и ответил:
– Роман будет закончен.
И печатание романа продолжалось (Соболь 1919:1).
Роман Соболя «Пыль», также понаделавший много шуму среди читателей, в котором критика в один голос отметила прямое ропшинское (савинковское) влияние (см.: Михайлов 1915: 21;
Ильинский 1915: 40-3; Полонский 1915: 390-92; Колтоновская 1916: 39–41, и др.)13> в отличие от «Коня бледного» и «Того, чего не было», тематически был сдвинут в сторону антисемитизма, которым оказалась заражена революционная среда, т. е. те, кто решительно взялся излечить людей от всех мировых болезней. «Пыль» задумывалась и писалась именно в то время, когда Соболь встречался с Рутенбергом (1913 г.), и рутенберговская фраза о том, что «все его <Соболя> мысли были тогда о России», возможно, как раз и свидетельствует о каком-то разговоре вокруг этого романа.
Свои отношения Соболь и Рутенберг продолжили и развили в Москве весной-летом 1918 г., где последний оказался после освобождения из «Крестов». В RA сохранилось письмо Соболя Рутенбергу, написанное 20 февраля 1925 г. из Сорренто, где писатель лечился после покушения на самоубийство14. Встречавшийся с ним там Ходасевич писал после его смерти:
Соболя я знал лет десять, но не коротко. Ближе я с ним познакомился лишь в начале 1925 года, когда внезапно приехал в Сорренто и поселился в пансионе «Минерва», всего лишь через дорогу от меня. Иногда мы переговаривались со своих балконов. Из Сорренто Соболь уехал прямо в Москву. Из эмигрантов я, вероятно, был последним, видевшим Соболя.
Могу засвидетельствовать, что большевики в его гибели решительно не повинны. Соболь явился в Сорренто в начале февраля. Месяца, кажется, за два до этого он покушался на самоубийство: отравился морфием. В то же время перенес воспаление легких – и приехал в Италию ради отдыха и поправки. О причинах самоубийства рассказывал он подробно, многократно и правдиво: они были вполне «личного свойства». Ни тени политики или общественности в них не было.
Далее Ходасевич приводит текст соболевской записки, датированной 19 февраля 1925 г. и обращенной к нему и «еще к двум лицам»:
Как будто переписка из двух углов. Если не собираетесь спать – приходите сейчас ко мне в гости: мне очень тоскливо сейчас, я побеседую с вами, угощу вас всех вином. Анд. Соболь. 2 ч. 15 мин. дня (Ходасевич 1926: 3).
Через 10 лет Ходасевич вновь вспомнил о Соболе в связи с годовщиной его смерти. В рубрике «Литературная летопись», которую он вел вместе с Берберовой под общим псевдонимом Гулливер, о Соболе говорилось примерно теми же словами, что и в публикации десятилетней давности – скромное дарование, искренний, но творчески вторичный писатель, запутавшийся, несчастный человек:
Литературное наследие, им оставленное, не представляет интереса. Но в жизни он был очень милым, немного сентиментальным, немного безалаберным, но добрым человеком и хорошим товарищем.