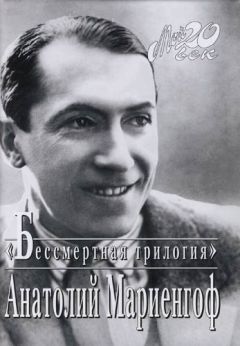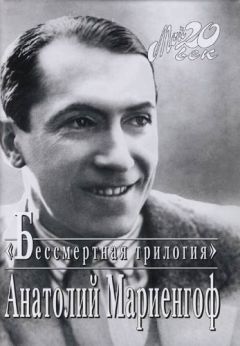Кто-то крикнул:
— Напрасно! Мы не собираемся охать.
Зал истово захохотал.
— Как вам не совестно, товарищи! — истерически пропищала чернявенькая девушка, что стояла у стены слева.
— Мне что-то разговаривать с вами больше не хочется. Буду сегодня только стихи читать.
И объявил:
— «Во весь голос».
— Валяй!
— Тихо-о-о! — скомандовал Маяковский.
И стал хрипло читать:
Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
Наших дней изучая потемки,
вы, возможно, спросите и обо мне…
— Правильно! В этом случае обязательно спросим! — кинул реплику другой голос, хилый, визгливый, но тоже мужской.
Маяковский славился остротой и находчивостью в полемике. Но тут, казалось, ему не захотелось быть находчивым и острым.
Еще больше нахмуря брови, он продолжал:
Профессор, снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу о времени и о себе.
Я, ассенизатор и водовоз…
— Правильно! Ассенизатор!
Маяковский выпятил грудь, боево, по старой привычке, засунул руки в карманы, но читать стал суше, монотонней, быстрей.
В рядах переговаривались.
Кто-то похрапывал, притворяясь спящим.
А когда Маяковский произнес: «Умри, мой стих…» — толстощекий студент с бородкой нагло гаркнул:
— Уже подох! Подох!
Так прошел в Институте имени Плеханова последний литературный вечер Маяковского. На нем была моя сестра. Домой она вернулась растерянная, огорченная.
Еще драматичнее было после премьеры «Клопа» у Мейерхольда. Жидкие аплодисменты. Актеры разбежались по уборным, чтобы спрятаться от Маяковского. Шныряли взглядами те, кто попадался ему на глаза. Напряженные, кисло-сладкие улыбки. От них и со стороны тошнило.
Словом, раскрылась обычная картина неуспеха.
А у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол «на сорок персон», как говорят лакеи.
Явилось же пять человек.
Среди них случайно оказалась актриса Художественного театра Ангелина Осиповна Степанова.
Ее увидал Маяковский в вестибюле и пригласил:
— Поедем ко мне выпить коньячку.
Отказаться было неловко.
За ужином он сидел во главе пустынного стола. Сидел и мрачно острил. Старался острить.
Непригодившиеся тридцать пять приборов были, как покойники.
Встретив на другой день Николая Эрдмана, Ангелина Осиповна сказала ему:
— Это было очень страшно.
— Да. Вероятно. Не хотел бы я очутиться на вашем месте.
И на его тоже. На его и подавно.
Вот и не очень-то я удивился, когда узнал, что Маяковский выстрелил себе в сердце. Это не было для меня громом среди ясного неба. Какое уж там ясное!
В комнату вбежал Эмиль Кроткий. Он сжимал в кулачке обрывок корректурного листа.
— Вот!.. Вот!.. — задыхался сатирический поэт. — Вот!..
На обратной стороне грубой шершавой бумаги было что-то нацарапано карандашом.
— Заправь галстук за жилетку, Эмиль. И садись за стол. Суп мы уже съели. Начинай с котлет! — с деланной строгостью сказала жена Кроткого — Лика Стырская.
Росточка они оба были самого незначительного. Одинаковые. Ровненькие! Только он — в чем душа держится, а она — толстенькая. Описывать их возможно словами уменьшительными, которые я не люблю. Но тут уж ничего не поделаешь.
— Эмиль, садись кушать котлеты, а то они остынут.
Он не слышал ее слов и не видел на обеденном столе большой черной сковородки с рублеными котлетами, поджаренными до цвета угля.
— Вот, товарищи, вот! — И над своей лысинкой поднял кулачок с обрывком корректурного листа: — Вот!..
И задохся:
— Предсмертное письмо Маяковского!
— Читай же, Эмиль! Читай! — воскликнула толстенькая Стырская. — Вы подумайте, прибежал с письмом Маяковского, с предсмертным письмом, и молчит. Какой эгоизм!
У нее, как у большинства женщин, было свое, особое представление о логике и справедливости.
Близорукий Кроткий сдернул пенсне с носа, похожего на серп молодого месяца.
— Господи, я умру от разрыва сердца прежде, чем он начнет читать! — опять вскрикнула толстенькая Стырская.
Кроткий сощурился и как-то страдальчески покрутил шеей — тонкой, как у гусенка, вылупившегося из яйца:
— Толя, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.
Я дал:
— Успокойтесь, Эмиль.
Он выпил весь стакан:
— Большое спасибо. Толя.
— Клянусь, я когда-нибудь его поколочу за эту вежливость! — продолжала горячиться Стырская.
— Помолчи хоть минутку, Лика!.. Читайте, Эмиль.
Он, задыхаясь, стал читать предсмертное письмо:
— «Всем. В том, что умираю, не винить никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник ужасно этого не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля — люби меня.
Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят — инцидент исперчен».
— Бедняга считал своей обязанностью и тут острить, — сказал я.
— Подождите, Толя.
Кроткий, все так же задыхаясь, прочел четверостишие из этого письма:
Любовная лодка разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете,
и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.
— Все, Эмиль?
— Нет!.. «Счастливо оставаться. Владимир Маяковский. 12-го апреля»…
Переспрашиваю:
— Когда?
— Двенадцатого.
— Значит, письмо написано за два дня до выстрела.
— Да. Об этом стоит призадуматься.
— И я призадумался, Эмиль.
— Имеется еще приписка.
— Ну?
— «Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно — ничего не поделаешь. Привет. Ермилову скажите, что жаль, что снял лозунг, надо бы доругаться. В. М.».
— Рапповцы, Ермилов… Ушел с дерьмом на подметках! — сказал я.
— Пф-ф-ф! — сказал Кроткий. — «Моя семья… Вероника Витольдовна…»
И вторично прочел вслух:
— «Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и… Вероника Витольдовна Полонская»!.. Пф-ф-ф!
И едко усмехнулся.
Я подумал: «А у Вероники Витольдовны имеется муж, которому она верна, по слухам. Не думаю, что такое завещание внесет мир в семью».
Словно прочитав мою мысль, Кроткий добавил:
— Вот, Толя, мы с вами и посплетничали. А ведь покойник этого «ужасно не любил».
— Что правда, то правда, — согласился я.