Что делал вчера и сегодня, уже не помню, да и не стоит того. Вчера приехала из Москвы целая орава художников — не то 30, не то 50 человек, но их никого не пускают дальше вестибюля, к великому счастью! Говорят, приехал Гончаров, сегодня видел Шевченко, Барто и Лабаса и очень им обрадовался. Они все трое очень хорошие, а Шевченко — просто ангел, как Николай Арсеньевич. Вспомнил вдруг, что в одном письме недавно сделал, кажется, смешную описку, — перечислял «хороших людей», которых тут особенно хорошо узнал, и вместо Лебедева написал Дейнеку — не думай, что я мог восхититься этим самовлюбленным и развязным героем ковбойского фильма. Правда, говорят, у него бывают приступы «самокритики» и разных угрызений, но мне такой тип людей чужд. Вечером вчера у художников был бал, вместе с ленинградскими, но я не пошел, как и Истомин, и Купреянов. Я с ними каждый день обедаю (то в Доме ученых, то здесь, в музее), Истомин очень спокойный, добродушный и остроумный человек. С H. H. я уже много раз ссорился — он ужасно вспыльчивый и злоязычный человек, но очень хороший.
Выставка откроется 13–го вечером, чрезвычайно торжественно. Завтра будет сумасшедший день, потому что к 2–м часам надо все совершенно доделать, а потом ехать в типографию делать корректуру каталога (всего), от чего я, наверное, к концу на стенку полезу. Машинистки все переврали, набиралось с почти непроверенных и перечерканных списков, и единственную оставшуюся копию — отослали Бубнову. Так что я завтра буду править гранки по вдохновению. Надоело мне все это до такой степени, что видеть больше ни одной картины не могу. Дня через три посмотрю и разберусь, что мне нравится, что нет. Народу на выставке последние дни, кроме работающих, без конца — весь Изогиз приехал, из Третьяковки — Замошкин, Никифоров и др. и еще всякий народ — толкучка, хотя никого не пускают из художников.
Малевич сооружает из гипсовых кубиков и цилиндров свои архитектоны, очень занятные — мне он очень нравится. Интересный человек, по — видимому, Раддов (ленинградский художник), хотя я с ним не говорил ни разу. Все‑таки главная масса экспонатов — третий сорт, первого — совсем немного.
Очень мне нравятся акварели Лабаса, чем больше их смотрю. Прекрасный художник, так же как и Гончаров, который на этой выставке получается исключительно эффектно и серьезно. Замечательный у него тут, в Русском музее, Сен Катаяма, — маленький старый японец (это одно из крупнейших имен Коминтерна) со скрещенными короткими ногами, сидящий на стуле с очень высокой спинкой. Очень хорошие картины Щипицына — молодого художника, близкого к Лабасу и Гончарову. Вообще хорошего все- таки много (абсолютно, не относительно). Лучше всех — Фаворский (не только мое мнение!), потом Шевченко.
Спроси Марию Борисовну, есть ли у нас кругликовский силуэт Михаила Осиповича? Она говорит, что делала его, и очень удачно, и отдала Михаилу Осиповичу. А я его никогда не видел. У себя она искала и не нашла[10]. Я рад, что выставка в витринах вышла удачно.
Наташушка милая, я так соскучился без тебя и Машеньки, зачем вы ее обижаете, что она плачет? Какая она милая, Машурочка. Наверное, она опять вышла сердитая на фотографии, — надо бы несколько раз снять. Игрушку я обязательно привезу. Не могу представить, как она говорит «пойду в музей» — это слишком замысловато! Машурушка милая! Наташенька, мне так худо тут одному. Надо ложиться — половина третьего, а завтра вставать в 8. У меня просьба: позвони маме (Д-1–16–44), попроси — очень вежливо — позвать ее из соседней квартиры и расскажи, что я тут делаю. Сегодня устроили с Митькой «пир» из кефали — а то уже вечеров десять я ничего не ел, кроме пустого чая. (Митька‑то ужинает у себя в Институте.) Я очень устал и мечтаю о Москве. Наташенька милая, милая, любимая Наташушка! Целую тебя и Машукушку тысячу миллиардов раз. Поклон Марии Борисовне. А.
14 ноября 1932 г.
Наташушка, милая, любимая, моя маленькая Наташенька! Два дня не писал — никакой силы не было — вчера было открытие выставки. Еще третьего дня получил два твои письма (9 и 10–го), а нынче утром еще одно (12–го). Сейчас сижу в тихой — тихой гостиной Дома ученых — где- то далеко в углу сидит молча еще человек, тишина полная. Обедал тут, после долгого перерыва — после отвратительных обедов в музее. Я очень устал. Третьего дня доделывали миллион дел. Вечером пустили приехавших художников смотреть (я удивился, что это люди бегут — оказалось, что каждый мчался смотреть, как повешен) — было несколько сцен и представлений. С утра уже видел Гончарова, которого люблю больше всех, кроме Фаворского, такой он милый и чудесный. Он остался очень доволен. Шевченко — побурчал по поводу каких‑то неправильных рамок (не по моему адресу), но добродушие его безнадежное — ворчание очень неубедительное выходит. Барто был тоже и просил себя перевесить, совершенно справедливо, п. ч. его никуда не годно повесили (несмотря на мои неоднократные протесты и попытки вмешаться), и я с большим удовольствием перевешивал его сам (хотя это живопись!) по просьбе Перельмана и Вольтера. С ним вместе окантовали незастекленные темперы и потом, уже около 12, я сделал ему хорошую стену. Ушел из музея в час. Выходя, Гурвич (директор Русского музея, о котором я тебе расскажу — очень занятный человек) сказал — «смотрите, это не Петербург, это совсем Париж». А Нерадовский заметил — «вот точно так же сказал Бенуа, выходя из Русского музея в такую же лунную ночь, без единого облачка». Правда, эта площадь необыкновенно хороша, а погода последних трех дней удивительная.
Вчера с утра возился с этикетками и пр., потом с корректурой каталога. Поехал на открытие с Митькой. Народу было столько, что картины смотреть никакой возможности не было — показывал Мите людей. Страшно обрадовался Фаворскому и Штеренбергу и весь вечер проходил то с Владимиром Андреевичем, то с Барто, его женой и Шевченко, то с Гончаровым и Лабасом. Фаворский и Штеренберг остались очень довольны, и очень занятно было слушать суждения всех сортов о всяких картинах. Шевченко вызывает единодушное восхищение (кроме Корина), так же как Фаворский и Лебедев. Видел такое количество народу, что скучно считать: приятно было слушать поздравления с хорошей выставкой и особенно комплименты за комнату Фаворского. Из Москвы приехали все художники, какие там есть, и все ленинградские пришли. Из музейных людей — только третьяковцы — Бакушинский, Замошкин и др. Когда все залы застелили коврами, украсили парадные комнаты (Ленинскую и др.) зелеными деревцами — при ярком свете выставка стала действительно торжественной. Накуплено множество работ — картин, рисунков и гравюр, Ленсоветом для Русского музея, Третьяковкой и др. У Шевченко — три картины, за «Прохожую» передрались Русский музей с Третьяковкой. И победила последняя. То же вышло из‑за большого «Дербента» Барто, но тут выиграл Русский музей. Русский музей сделал превосходный выбор вещей — снял пенки. А отбор Третьяковки — как всегда случайный и непонятный. Сегодня снова ходил недолго по выставке с Фаворским, познакомил с ним Остроумову — Лебедеву (он ей «объяснял» сам свою комнату) и сейчас отсюда пойду в старое здание университета на Васильевском острове за ним — идти к ней. Завтра пойду к Кругликовой, а сегодня она будет у Остроумовой — Лебедевой рисовать силуэт Фаворского. Сказала, что принесет мой. Она редкостно добрая и хорошая.
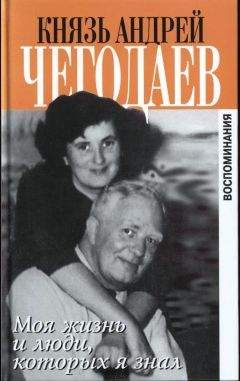
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


