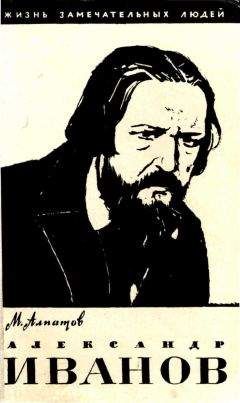Он признавался Чернышевскому, как трудно ему в его годы отделаться от «вкоренившихся понятий». И тот понимал, что новые идеи не вполне прояснились в художнике, был глубоко тронут, видя перед собой человека, который имел мужество отказаться от тех предубеждений, с которыми не удавалось оправиться даже Гоголю. Иванов не скрыл того, что своим искусством навлечет на себя гонения властей. Он даже не отрицал того, что гонения эти будут им заслужены, так как в искусстве он будет разрушать предрассудки, которые поощряют те, кто заинтересован в сохранении существующего порядка. Чернышевский попробовал успокоить художника: в искусстве идеи выступают не так обнаженно, как в публицистике; многие не сразу поймут, какие последствия вытекают из искусства художника. Неприятности будут доставлять ему одни лишь завистники, художники-чиновники, которые заботятся о том, чтобы левый борт их сюртуков был украшен знаками отличия.
Чернышевский видел Иванова всего лишь два раза, но он был очарован и личностью и образом мыслей художника. Уже позднее он утверждал, что Иванов заслуживает не только славы по своим талантам, но и уважения и сочувствия всех благородных людей образом мыслей, «истинно достойным нашего времени». Самая встреча Иванова с Чернышевским должна быть названа исторической встречей: она закономерно завершает собой весь многотрудный и извилистый путь художника, который выводил его на передовые позиции русской общественной мысли.
Предсказания Чернышевского о судьбе художника подтвердились скорее, чем этого можно было бы ожидать. Друзья сообщили художнику, что о картине его появилась статья в близком к правительственным кругам журнале «Сын отечества». По расстроенным лицам друзей можно было догадаться, что статья эта была для художника неблагоприятна. Некий Толбин, имя которого мало кому что-нибудь говорило, взял на себя труд первым отметить появление картины Иванова в Петербурге. Чтобы отвести всякие подозрения в нелицеприятстве, автор начинал с комплиментов, с выражения своей глубокой симпатии к труду, приобретенному столь дорогою ценою, и с признания в своем пристрастии к автору, вести о котором из-за границы заставляли ожидать в картине его «полноту концепции, правильность рисунка и строгий пуссеновский пейзаж». Тут автор ставил многоточие и, процитировав грибоедовский стих «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», резко менял свой тон. «Картина г. Иванова не вполне оправдала те несомненные надежды, которые порождала она, будучи окруженной запретом таинственности». Автор находил, что выполнена она в манере «дорафаэлевской техники», которую вряд ли возьмет себе за образец молодое поколение талантливых художников. «Тлетворное, пагубное влияние Овербека не миновало, кажется, и творческой кисти г. Иванова», — писал Толбин. «Про колорит картины г. Иванова пройдем молчанием…» — замечал он с деланным великодушием, бросая, попутно несколько ядовитых замечаний по поводу «белых, чисто северных тел» и «зеленых неестественных черт головы Иоанна, словно отделенной от искаженного полуистлевшего трупа». Иванов обвинялся в плагиате, так как фигура эта напоминала известную античную статую «Точильщика». Река Иордан, по мнению Толбина, похожа на «чисто китайскую живопись, разрисованную какими-то фиолетовыми, синими и пунцовыми фестонами». В статье пускалось в ход и более тяжкое обвинение: Толбин находил сходство обнаженных фигур с «довольно вольными фигурами Джулио Романо, которые своим бесстыдством заставили папу Климента VII удалить его от двора», в картине Иванова он находил отголоски древней «бесстыдной Венеры». «Где же тут целомудрие, достойное столь высокого священного предмета?» — лицемерно восклицал в заключение автор. Это был уже недвусмысленный намек на то, какой участи достоин был, по его мнению, русский художник. В заключение картина Иванова противополагалась картинам Брюллова и Бруни. «Это не то, что группы в «Последнем дне Помпеи», «Медном змие», живо, сами собою повествующие зрителю о праве и необходимости своего изображения на полотне».
Статья подоспела в то самое время, когда чашки весов, на которых решалась судьба картины, колебались, когда достаточно было небольшого толчка для того, чтобы стрелка весов качнулась в одну сторону. Статья была написана человеком, близким к искусству, ученая терминология придавала ей убедительность в глазах широкой публики и вместе с тем выдавала, что Толбин дал только свою подпись ради тех художников, кто был больше всего заинтересован в устранении с академического поприща опасного соперника. Все улики указывали на Бруни. Друзья Иванова были глубоко возмущены ударом из-за угла. Пименов-младший, которому хорошо известны были академические нравы, выражал готовность выступить в печати с опровержением. Но, конечно, как и всегда бывает в подобных случаях, дальше добрых намерений дело не пошло.
Между тем статья своей внезапностью произвела такое же действие, как раздавшийся в толпе крик, сеющий панику.
Все те, кто ходил на выставку лишь потому, что на нее ходили другие, кто испытывал недоумение перед картиной Иванова потому, что некому было вдумчиво разъяснить ее значение, почувствовали в руках своих отмычку. В академии, где была выставлена картина, перед ней давно уже толпился народ: дамы в широких турнюрах и в кружевных чепцах, военные в мундирах, чиновники во фраках в талию, студенты, — одни подходили к ней совсем близко, другие сидели на лавках и рассматривали ее в лорнетки и бинокли. Теперь люди стали приходить в академию с номером «Сына отечества» в руках, читали статью вслух, проверяли ее справедливость, сличая ее с оригиналом, и, поскольку другого мнения не существовало, соглашались с мнением Толбина. Пронырливый журналист гнусной клеветой достиг желанной цели.
Все это время Иванов был настороже: он ждал неприятностей от начальства, от которого с молодых лет привык получать одни выговоры. Удар, нанесенный соперниками, был нежданным, и потому ударом смертельным. За месяц петербургской жизни его бесконечные поездки за город в экипаже и на пароходе, весь непривычный для него образ жизни расшатали его и без того слабое здоровье. Когда после одной из своих бесцельно хлопотных поездок в Петергоф, где он даже не был принят, он, измученный ожиданиями, истерзанный вздорными слухами и неопределенностью, возвращался с последним пароходом в Петербург, он почувствовал себя плохо. Вечером начались приступы холеры. Этого недуга он опасался больше всего, так как существовало мнение, что холере подвержены люди, утерявшие спокойствие духа. Этого спокойствия ему теперь больше всего не хватало, и потому в нем не было силы сопротивления.