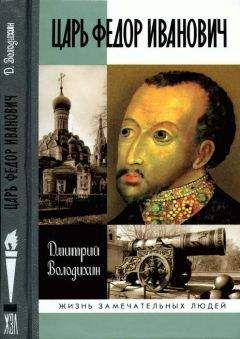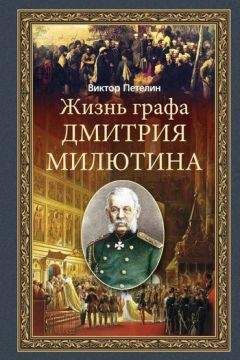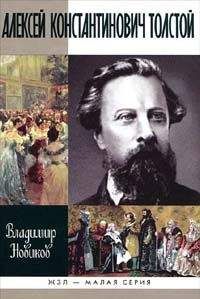Толстой увидел, как Есенин встал, подошел к борту, повернулся лицом к своим друзьям и начал читать стихи. Многие из них Толстой знал наизусть, но в исполнении Есенина знакомые строчки приобретали какой-то более глубокий смысл, первоначальная хрипотца исчезала незаметно, понемногу голос набирал уверенность и силу. И вот уже никто не шевельнется, завороженные голосом изумительного поэта. Толстой сам умел читать, и многие уверяли его, что у него есть определенные актерские данные, но то, что он услышал сегодня, потрясло его. Никогда еще Есенин так не читал при нем. И никогда он не видел его таким прекрасным, Есенин стоял у борта в распахнутой рубашке, загорелый, кудрявый, окруженный толпой почитателей, и казалось, что нет счастливее да земле человека. Отчего ж так грустно стало на душе у Толстого, ведь он не столь уж сентиментален?..
Толстой жадно ловил каждое слово поэта. Незаметно для себя подался вперед, пальцы выстукивали какую-то незамысловатую дробь на коленях…
…Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне…
Дальше Толстой уже ничего не слышал: какая-то неведомая сила вдруг крепко и жестко схватила его за горло, и нечем стало дышать, и только через несколько минут отпустила… Есенин вяло махнул рукой, дескать, все, хватит, а Толстой широко шагнул к нему и крепко взял за плечи.
— Ну, спасибо, Сергей, молодец! Сегодня ты в ударе, русская ты косточка! Какие стихи ты нам прочитал, и сам, наверное, не знаешь… Нет, видно, никакие заграничные вояжи не помогут в творчестве. Да и как прожить без нашей березы, без всего вот этого, смотри, даже без вот этого облака. А за «Письмо матери» спасибо вдвойне, свою мать, покойную, вспомнил, и так стало горько…
— И я рад, что вы вернулись домой. Эта земля нам на роду загадана, как же от нее уйти. Всюду, кажется, побывал, а дома лучше. Да и пишется, а там я ничего не написал.
Пароходик подошел к пристани, и веселая компания сошла на берег. Есенин спускался по трапу рядом с Толстым. Видно, Толстой чем-то растрогал его, и он все хотел что-то сказать, но начавшаяся суета не давала ему такой возможности.
— Знаешь, Алексей Николаевич, почему я поэт? У меня родина есть! У меня — Рязань. Я вышел оттуда и какой ни на есть, а приду туда. Каждый должен иметь свою родину, особенно поэт, как и вообще писатель. Найдешь родину — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины…
— Вот за это я тебя еще больше люблю. Дай, Сережа, я тебя расцелую… — И Толстой крепко, по-русски, расцеловал своего любимого поэта.
— Все они думают так, — смущенно продолжал Есенин, — вот — рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого мастер. Этому и кобылу научить можно! Помнишь «Пугачева»? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят. Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сеять, вот тогда ты — мастер. Они говорят — я иду от Блока, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть…
Потом Есенина потащили осматривать достопримечательности Петергофа, а Толстой долго еще размышлял над его словами. Действительно, невозможно представить себе Есенина без его родного Константинова, без его родной матери в «старомодном ветхом шушуне», как невозможно представить себя самого без Петрограда и Москвы, без Самары и Сосновки, без тех людей, которые стали близкими и родными. Что бы он делая на Западе? Запас наблюдений о дореволюционной России давно иссяк, многое уже вошло в его произведения, а повторение для художника подобно смерти.
Да, Родина, Россия… А как там Бунин, Куприн, Ремизов, Шмелев?.. Пропадут…
И вдруг Толстой вспомнил разговор, который недавно состоялся на теннисной площадке. К нему, только что отыгравшемуся, подсел молодой поэт Николай Асеев, они были чуть-чуть знакомы. Разговорились. Асеев поразил тем, что стал на память читать его юношеские стихи: «…В старинном замке скребутся мыши, в старинном замке, где много книг, где каждый шорох так чутко слышен, — в ливрее спит лакей-старик…» Естественно, Толстой поинтересовался, почему он их помнит. «А вот почему, — ответил Асеев, — вся эмигрантщина и ее поэзия мне кажутся вот таким стариком лакеем. А вам не кажется этого? Все они творчески бессильны, а бессилие оттого, что ушли из России, оторвались от кровных своих, от обычаев, повадок, языка, от народа своего отвернулись, на чужих хлебах жить стали. Ну, разве это неправда, можно ли таким прощать?..»
Почему они никому не хотят прощать? Всюду схватки, бои, каждый воюет за какую-то свою маленькую правдочку, а не хотят понять тех, кто, оказавшись в жестоком и неумолимом в своей неотвратимости водовороте жизни, не мог или не был способен выбраться из этой круговерти. Правду он сказал, конечно, правду, да ведь и правда бывает разная. И под иную правду нужно подвертку подкладывать! А то ведь ногу сотрешь на большом ходу. А им все нипочем… Некоторые и сейчас думают, что, если зайца бить, он может спички зажигать. Как они не поймут, что всему свое время. Как безусловно и неотвратимо человечество пройдет через революцию пролетариата, так литература неумолимо будет приближаться к массам. Но это процесс долгий и сложный. Художнику нужно какое-то время наблюдать поток современности, чтобы быть способным к обобщениям. Здесь зайцу битьем не поможешь. Художник должен стать органическим соучастником новой жизни. Тогда только можно от него чего-то ждать… Нет, невозможен более, непереносим какой-то прочно установившийся патологический подход к революции, нутряной, что ли. Теплушки, вши, самогон, судорожное курение папирос, бабы, матерщина, мародерство и прочее и прочее… Все это было. Но это еще не революция. Это явления на ее поверхности, как багровые пятна и вздутые жилы на лице разгневанного человека. И что же? Разве сущность этого человека в красных пятнах и вздутых жилах?
Нет, революцию одним «нутром» не понять и не охватить. Пора начать всерьез изучать ее, художнику нужно стать историком и мыслителем. Придется поездить по стране, поговорить с участниками событий, порыться в газетах, в журналах, а потом уже продолжать работать над трилогией о революции. Драматично должны складываться судьбы Рощина, Кэти, Даши, но не безнадежно…
Толстой, сдвинув шляпу на затылок и вытерев пот, вдруг удивленно посмотрел на приземистый домик, около которого он оказался. Да ведь это же домик Петра Великого! Сколько горя принес он своей стране, но зато нет ей теперь равных по силе и могуществу. Интересно, что думают о Петре и о его роли в создании Великой России сегодняшние марксисты? Может, написать рассказ или пьесу о том времени?.. А примут ли? А может, взяться за роман о Пугачеве?.. Тут Екатерина, Суворов, братья Орловы, Петербург, Москва, Самара, всю Россию можно показать, как Чапыгин задумал в «Разине Степане»… Сколько тем, сколько тем…