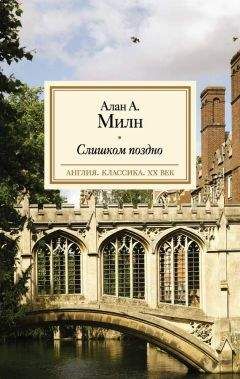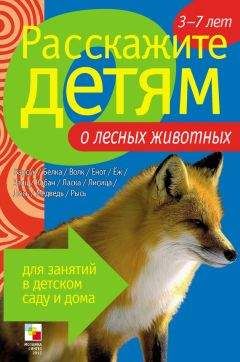ГОРНИЧНАЯ. Там внизу полицейский, сэр, требует вас.
МУЖ. О Боже!
Выходит на пять минут. (Публика затаила дыхание. Наконец-то действие!) МУЖ возвращается.
ЖЕНА. Машина?
МУЖ. Какой-то болван отключил фары. Так, о чем мы говорили? Черт, трубку забыл.
Выходит.
(И если публика тоже дружно покинет зрительный зал, кто может ее за это винить?)
Так разговаривают в реальной жизни. Очевидно, естественный диалог необходимо обработать, прежде чем подавать зрителю. Единственная правда, которая требуется от драматурга, — правда характеров. Сохраняя верность характерам, он волен представить в кривом зеркале сцены любые искажения реальной жизни, лишь бы они верно отражали суть его замысла. Если еще учесть, что театральный зритель, в отличие от читателя, не может перелистать несколько страниц назад, мы видим, что сочинение пьесы — увлекательная игра, в которой требуется победить апатию, предвзятость и забывчивость противника. Возможно, читателю с галерки будет интересно, если я проиллюстрирую радости и опасности этой игры на примере одной своей пьесы.
3
В основе пьесы может быть тема, сюжет или характер. Если ваша пьеса основана на теме, нужно придумать сюжет, который поможет раскрыть эту тему; если в основе — характер, надо придумать сюжет, в котором проявится этот характер. Сюжет необходим в любом случае. Для большей части публики в нем и заключается главный интерес. А для автора — совсем не обязательно.
В основе пьесы «Правда о Блейдсе» — тема. Это не история жизни литератора и не повесть о литературном мошенничестве. Мне была интересна следующая проблема: что произойдет с религиозным сообществом, если вдруг станет известно, что они поклоняются ложному богу? Для раскрытия этой темы я мог выбрать любое удобное для изучения сообщество и любого бога. Божок племени дикарей на тропическом острове, национальный герой в среде своих соотечественников, церковный староста в кругу прихожан — случись внезапно громкое разоблачение, кто переметнется, кто сохранит верность? И верность чему? Истине или Богу? Я решил раскрыть эту тему на примере великого поэта. Показать реакцию его близких, когда на смертном одре герой признается, что всю жизнь паразитировал на трудах давно умершего современника, никому не известного и не изданного при жизни.
В лице близких я постарался воспроизвести типичных представителей религиозного сообщества. Верховный жрец, он же секретарь, зять и официальный биограф Блейдса; жена, перенявшая веру у верховного жреца; ее сестра, истинно верующая, своей вере жертвующая всем; беспристрастный критик, давний поклонник сестры, воспринимающий божество скорее интеллектуально, нежели духовно; внуки, которых старшие силком загоняют в храм, а те упираются, дерзят и кощунствуют. Всем хорошо знакомые типажи; очень интересно было наблюдать, как они проявляют себя в свете беспощадной правды об умершем мошеннике, которому вольно или невольно посвятили свои жизни. То есть мне это было интересно — а чтобы стало интересно и публике, она должна для начала поверить в легенду Блейдса. Не годится, чтобы зрители по ходу пьесы спрашивали себя: «Да как можно было обмануться? Кто бы хоть на секунду поверил, будто это великий поэт?»
Значит, Блейдс в глазах зрителей должен быть подлинно Великим человеком.
Нет ничего труднее, чем показать на сцене великого человека. А из всех великих людей труднее всего показать гениального писателя. Ясно ведь, что персонаж пьесы не может быть мудрее и талантливее автора. Пусть сам драматург знает, что в реальной жизни ни один гений не может непрерывно блистать мудростью и остроумием и что знакомые ему великие писатели никак не проявляли своего величия в разговоре. Барри мне рассказывал, как он однажды участвовал в сборище молодых авторов, и все они с большим увлечением рассуждали о стиле. Какой-то пожилой человек сидел в уголке и внимательно слушал. Его попросили тоже высказаться. Он, смутившись, признался, что никогда об этом не думал; он уж лучше послушает, поучится; ему, право, нечего сказать. Потом он прибавил, что ему пора идти, и незаметно удалился. «Кто это?» — спросили у Барри, который его и привел. Барри ответил, что это был Томас Харди. Такого Томаса Харди театральная публика не примет. Как я уже сказал, на сцене невозможно показать реальную жизнь, а только такую, которая кажется реальной в нереальных условиях театра.
Итак, герой пьесы должен убедить зрителей в своей гениальности. Молчанием тут не отделаешься. Но если сам автор не гений, как ему создать гения?
Обычный, самый очевидный и на первый взгляд единственно возможный путь — показать главного героя глазами его почитателей. Только так можно убедить публику, что он взбирался на Эверест, спускался по Ниагарскому водопаду или выиграл битву при Ватерлоо. Да только я в качестве театрального критика пересмотрел такое множество спектаклей, где первые десять минут второстепенные персонажи без умолку превозносят подвиги главного героя… И вот под гром аплодисментов на сцене появляется милый старина Джордж Александер… или Три, или Артур Буршер… В роли Великого химика неотличимые от роли Великого финансиста, которую они исполняли на прошлой неделе. Я понимал, как на самом деле трудно показать на сцене гения таким способом. Все мы инстинктивно испытываем настороженность, видя чересчур бурный энтузиазм, ничем зримо не подкрепленный. Правда, мой гений — девяностолетний старец, его седины помогут забыть, что перед нами актер, и придадут персонажу тот ореол бессмертия, что окружает в девяносто практически каждого писателя. Актеру трудно тут что-нибудь испортить, если я создам для него красивый выход, подскажу нужные слова. А как это сделать?
Для начала я заставил критика Ройса выйти на сцену и объявить, что он принес поздравительный адрес ко дню рождения Великого человека. Публика ждет привычного начала: сейчас послушаем, какой он великий. Однако Ройса встречает скептически настроенный внук поэта, Оливер — для него Блейдс всего-навсего надоедливый старик. Потом появляется внучка по имени Септима. Молодые люди разносят культ почитания Блейдса в пух и прах, смущая душу Ройса. Публика вначале симпатизирует юным бунтарям, но постепенно их нетерпимость начинает раздражать. Закрадывается мысль: быть может, внуки досаждают деду не меньше, чем он им? Тут входит Марион, их мать. Для нее Блейдс — истинный Бог. Публика видит другую сторону картины: слепое, рабское поклонение. А ведь пожалуй, это едва ли не больше досаждает гению? Если внуки не правы, то их матушка еще более не права. Какое отношение нестерпимо для Блейдса в большей степени?