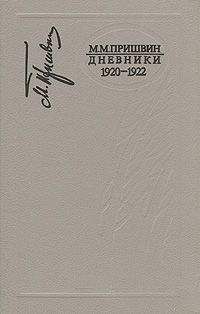Последние русские символисты, даже те, которые брали материалы из русской этнографии и археологии (Ремизов), лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (В. Иванов, Ремизов). Непосредственное чувство жизни своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло. И всегда символисты меня этим раздражали, и был я с ними потому, что натуралисты-народники были мне еще дальше. Мне всегда казалось, что для художественного творчества нужно, во-первых, заблудиться в себе до того, чтобы, вдруг нечаянно выглянув из себя, увидеть нечто вне себя и, временно поверив этому внешнему миру, отдаться ему, и потом, во-вторых, путем художественной работы передать другим, рассказать, как сон. Итак, в основе должна быть находка, предполагающая искание с верой в существование действительной жизни (реализм). Основание находки в вере своей, что это не я. Так что «блуждание» есть как бы процесс бессознательного творчества, и сила находки заключается в бессознательности: куда-то, зачем-то влечет… я называю силой — уверенность в существовании находки; сила ее бывает так велика, что довольно продолжительное время можно без вреда для нее осознавать, вычитывать о ней книги, выписывать находящиеся выдержки, изображать; но можно и переосмыслить до того, что находка раздвоится: останется на одной стороне остов (т. е. вещь, ничего особенного из себя не представляющая и всеми видимая, обыкновенная), а на другой свое представление о ней, т. е., как это мне показалось, в таком случае пропадает творческий жар, который кажется теперь наивным пережитым состоянием. Так некоторые и всю свою жизнь засмысливают и остаются ни с чем. И вообще процесс творчества совершенно подобен жизненному процессу в его напряжении, в «жажде жить» и «ловить мгновения».
Сила бессознательности (втемную — пари) заключается в том, что на время «я» делается не «я», а часть мира вне меня, т. е. природы и общества, в это время через мое отсутствующее «я» и показывается нечто реальное, которое потом возрожденное «я» встречает «находкой». Вопрос в том, как и откуда вновь обретается «я» (хлыст: бросьтесь в чан и воскреснете вождями народа){113}, и еще вопрос: как отрешиться от «я» и броситься в темную. Оба вопроса решаются при уверенности… т. е. так это должно происходить: Я высшее, имеющее с Мы и Мир равенство, отличное от них только малым, разумным «я», отдает это малое «я» в полной уверенности, что оно возродится; ведь в большом Я существует малое, и там оно все понятно, а трагедия заключается в невозможности малым «я» постигнуть большое. Так выходит, что Я возрожденное есть Мы.
Я стихийное (большое), из него выходит Я сознательное (малое), и, в конце концов, Я стихийное переходит в Мы.
Сознательное «я» для того и существует, чтобы перетворить стихийное Я в Мы. Так что гибель Я сознательного (малого разумного) предопределена, и у Христа она возводится в сознание (смертию смерть): сознательная смерть для спасения души и воскресения{114}. Эта смерть (страдание) и есть единств, путь выхода сознат. из себя, другой путь: страсть.
Если бы художественное творчество захватило весь дух и всю плоть человека, то оно бы стало религиозным, и все отличие худ. тв-а состоит в том, что оно целиком не захватывает человека («как художник и как человек»), но в своем кругу, в своей частице плоть и дух художника имеет судьбу, одинаковую с религиозным творчеством, т. е. с творчеством жизни.
Истинное худож. творчество должно знать свое место и не становиться на место действия жизни, не становиться тем, что делает одна религия (дело жизни) (как у Ничше, Гоголя, Толстого).
Художник должен быть скромен, потому что свет его, как лунный, только исходит от солнца, но сам он не солнце.
Черт творчества — такое существо, которое берется не за свое дело (Черт Гоголя).
Черти бывают разные, начиная от маленьких попрыгунчиков, кончая демонами, вполне симулирующими дело жизни. Но, в конце концов, те и другие и третьи, все они делают не свое дело.
Сознание, что делаешь свое дело, — вот счастье и награда художника, и это есть добро, а не свое дело — несчастие, зло. Большие художники часто берутся за религию, а малые за публицистику. Толстой хорошо сделал, что отрекся от себя как художника, а Гоголь влип, как дурень, со всем своим художеством в религию.
В деле жизни многие берутся не за свое дело, и так порождается индивидуализм как начало, враждебное личности.
Личность может быть очень маленькая, но она всегда цельная и представительная, а индивидуальность всегда — дробь.
Истинный человеческий коллектив имеет одно лицо — это есть личность, тогда как коллектив Легиона не имеет лица. Безличный коллектив есть Легион индивидуальностей (бесы).
Так ясно подхожу я к критике нашего коммунизма: принудительный коллектив есть Легион. Но я ставлю себе вопрос — мое отвращение к этому коммунизму исходит от высшего Я, т. е. от сознания истинного коллектива, или же вся критика исходит от моего неудачного жизненного положения. Веда я чувствую, что если бы наш коммунизм победил весь свет и создались бы прекрасные формы существования, — я бы все равно не мог бы стать этим коммунистом.
Что же мешает?
1) отвращение к Октябрю (убийство, ложь, грабежи, демагогия, мелкота и проч.).
Разбираю это первое, т. е. отвращение к Октябрю.
— Разве эта мерзость не существовала раньше? — Да, но она была привычная: на место этой привычной мерзости стала непривычная, и это вышло отвратительно. — Значит, ты был в «счастливом» состоянии, что привык к мерзости, однако это не аргумент <1 нрзб.> Октября. — Пожалуй, да. — Нельзя ли найти аргумент более веский, иначе все твои разумные построения чертова Легиона могут показаться продолжением твоего аристократического отвращения к массам. — Кроме личного отвращения, у меня было еще нежелание страдания, нового креста для русских людей, я думал, что у нас так много было горя, что теперь можно будет пожить наконец хорошо, а Октябрь для всех нес новую муку, насильную Голгофу. Я бы хотел еще немного повоевать, после чего стало бы, наверно, бедным людям на Руси жить сносно. — А общий враг, капитализм, остался бы, и потом, после отдыха, опять бы началась война, гнев Октября был против этого начала капитализма, неизбежно порождающего мировые войны. — Войны всегда были и всегда будут, их уничтожить невозможно принципиально, а только посредством хорошего ухода за ранеными смягчить их пришествие, ведь умирать не страшно, а очень страшно смотреть, когда умирают, и особенно без ухода, как теперь. — Вижу я, что ты не революционер, потому что так может теперь назваться лишь человек, имеющий универсальную идею обновления мира, а не только отечества своего. — Да, в отношении этой революции я не имею в душе того пламени, который соответствовал бы идее универсального обновления, и оттого я вижу только преступления; между тем я жажду истинной революции, я — чающий евангелия революции, но разве Маркс — евангелие? Я пережил Маркса в юности{115}. И я наверно знаю, что все, верящие теперь в Маркса, как только соприкоснутся с личным творчеством в жизни, оставят это мрачное учение. Будет такое же возрождение общества, какое было со мной лично, когда сердце мое освободилось для любви к миру в его подробностях, ко всякой малой вещи в нем; эти восторги освобожденного сердца никогда не позволят мне заковать его снова схемами разума. Мне кажется, так — я на пути к своему делу, хотя оно такое до смешного маленькое, как мое писательство, между тем как революционеры все делают не свое дело — в этом, кажется, источник всех наших разногласий (не свое делают — «не знают, что творят»{116}).