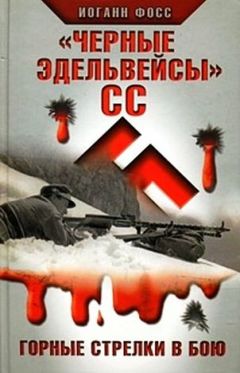— Как бы то ни было, — добавил Бинг после короткой паузы, — я не для того вступил в войска СС, чтобы доказать, что я истинный немец. Если ты это, конечно, имел в виду.
— Нет-нет, не это. Ты меня неправильно понял, — запротестовал я. — Просто пытаюсь представить себя на твоем месте, как я сражаюсь, чтобы вернуть отнятую родину, которая уже давно в руках у чужой страны.
— Чужой или не чужой, какая разница? Границы не так уж и важны. Раньше я думал, что Европа должна объединиться против большевиков, но все вышло совсем не так. И теперь я чувствую себя втянутым в гражданскую войну. С каждым днем я понимаю происходящее все хуже и хуже, и это сводит с ума, — грустно признался Бинг.
— Ну ты скажешь, в гражданскую войну! — непроизвольно вырвалось у меня. — Мы ведь, если не ошибаюсь, воюем с американцами!
— С моей точки зрения, не велика разница. Кстати, ты знаешь, кто наш противник у Кольмара? — неожиданно спросил он.
— Понятия не имею, — честно признался я.
— Я сам недавно узнал: французские войска под командованием генерала Леклерка.
— И что из этого? — Скажу честно, я не понял, к чему он клонит. — Горстка французиков! Можно подумать, нам есть смысл их бояться.
Бинг ответил не сразу. Когда же я посмотрел на него, то увидел, что взгляд его устремлен поверх пулемета куда-то вдаль.
— Я думал, ты знаешь, — произнес он, в конце концов. — Стоит мне попасть в плен живым, как меня на месте расстреляют как предателя.
Больше мы с ним не разговаривали на эту тему. Бинг погиб через два месяца. Он был из числа тысяч подобных ему добровольцев в борьбе с большевизмом и в конечном итоге стал жертвой собственного идеализма. Они все стали жертвами. Не думаю, что их идеализм умер вместе с ними, их мечта о том, что в один прекрасный день Европа станет единым домом, в которой границы, как выразился Бинг, ничего не значат.
Утром, когда нас сменили, мы пошли прогуляться по деревенской улочке — замерзшие до мозга костей, голодные, усталые как собаки. Мы еще не отошли после Рейпертсвейлера. Боже, когда в последний раз у нас была возможность выспаться, причем под крышей, а не под открытым небом? Сегодня такая крыша была нам обещана — местная церковь. День стоял морозный и солнечный. По пути мы подошли к походной кухне, которая каким-то образом умудрилась ночью проследовать за нами. У нас был кофе, настоящий, не эрзац, печенье и апельсины, все, как вы понимаете, отбитое у американцев.
Церковь стояла на небольшом возвышении. К дверям вела лестница. Подойдя ближе, мы увидели, что перед ней сгрудились американские военнопленные, и наш офицер обсуждал с шарфюрером, что с ними делать. Наш полк двигался дальше, поэтому отправлять их в тыл нам было не с руки. Оставить их стоять на морозе, после того как они провели под открытым небом всю ночь, — тоже не слишком гуманно. Собственно говоря, церковь предназначалась нам. И тогда было принято простое решение: и мы сами, и пленные американцы вместе заночуем на церковном полу. Мы вошли внутрь, и, как только устроились на ночлег, оказалось, что пленные легли между нами. Так мы и провели всю ночь — немецкие солдаты вперемежку с американскими на деревянных досках пола.
Я долго не мог уснуть, зная, что рядом со мной мои первые американские пленные. Тот, что лежал слева от меня, был белым, тот что справа — худой и смуглый. Я спросил у них вещи, которые мне самому теперь кажутся наивными: зачем им понадобилось ехать за тридевять земель в Европу, чтобы сражаться с нами? Не лучше было бы нам объединить силы, чтобы сообща дать отпор русским? Разве не в наших общих интересах уничтожить большевизм? Но они были скромные ребята и не слишком разговорчивые. Да и мой английский оставлял желать лучшего, кроме того, мне впервые стало ясно, что тот язык, на котором говорят американцы, это не тот английский, который учат в школе.
Бинг вежливо попросил меня закрыть рот. Вскоре мы уже все спали, по крайней мере все немцы. У двери застыл наш часовой, а сквозь цветные стекла витражей мирно светило солнце.
В последние дни февраля 1945 года мы покинули наш сектор в Нижних Вогезах. В задачи наших передовых частей входило не допустить возвращения американцев на потерянные ими позиции рядом с немецкой границей. Операцию «Нордвинд», «Северный ветер», пришлось отменить, потому что немецкие войска, которые на новый год вошли в северный Эльзас и восточную часть Лотарингии с севера и востока, оказались слишком слабы, чтобы закрепить свой успех. В конечном итоге операция так и не смогла достичь главной цели — отбить Эльзас и ее столицу Страсбург и тем самым отрезать французов от американских частей.
Встретив в этом секторе ожесточенное сопротивление и не оставляя надежды развернуть массированное наступление, американцы стремились нанести нам как можно больший урон, в то время как сами всячески пытались избежать потерь. После отступления из Рейпертсвейлера их и наши передовые части старались держаться друг от друга на почтительном расстоянии. Обе стороны предпринимали разведывательные вылазки. В нашем случае в состав разведотряда обычно входил Генрих и еще несколько человек, в том числе и я; судя по количеству взятых «языков» — Генрих даже получил Железный крест плюс недельный отпуск — наши действия имели успех. От взятых в плен «языков» наше командование узнало, что американцы пока не собираются возобновлять наступление, которое они приостановили в середине декабря. Вместо этого они обрушили на нас всю мощь своей артиллерии, с каждой новой неделей усиливая обстрел наших позиций. Время от времени до нас доходили известия о тяжелых потерях, особенно в тыловых эшелонах. Случалось, что при попадании в блиндаж крупнокалиберного снаряда в одночасье погибал целый взвод, и мы с горечью понимали, что наша собственная артиллерия не в состоянии дать достойный отпор, учитывая перевес противника в воздухе. В общем, мы держались как могли, зная, что никакой крупномасштабной операции не предвидится, чувствуя, как боевой дух потихоньку оставляет нас. Настало время оставить позиции.
Мы передали их другому подразделению, а сами провели несколько дней в тылу, пока шло переформирование. Стоит ли говорить, что мы столкнулись с суровой действительностью, причем не только на нашем фронте, а вообще. Выйдя из лесов и двигаясь по открытым дорогам, мы увидели, что «Германская крепость», как называла страну пропаганда, лишилась своей крыши и теперь была открыта бомбардировкам союзников. Днем, за исключением плохой погоды, мы лежали, затаившись, на тот случай, если их самолеты налетят, словно рой оводов. Передвигаться в светлое время суток стало практически невозможно.