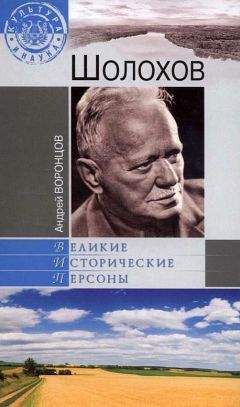— Спасибо, Александр Серафимович, — горячо сказал он.
— А роман не забывай, — напоследок пожелал Серафимович. — А то, паче чаяния, будешь казниться мыслью, что он приносит людям несчастье — как тому же Ермакову. Нет, ты как раз в долгу перед теми, кто тебе помог в работе над ним, и обязан свой труд закончить.
— Обязательно, — пообещал Михаил.
Он вышел из «Октября», подрагивающими руками зажег папиросу, жадно затянулся, побрел по улице. «Узнай, что в двадцатом годе расстрелян Оглоблин Прон», — все повторял он про себя строчки из любимой есенинской поэмы «Анна Снегина».
Вернувшись в Вешенскую, к осени Михаил закончил вторую книгу «Тихого Дона». Не прошло и года с тех пор, как он отложил «Донщину» и взялся за новый замысел, и вот — перед ним лежала огромная, исписанная от руки стопа бумаги в более чем 800 страниц.
Экономя бумагу, они с Марусей перепечатывали рукопись всего через один интервал: строка лепилась к строке, одна налезала на другую… Только потом, в Москве, Михаил понял, какую совершил ошибку. То ли из-за нечитабельности шолоховской машинописи, то ли из-за занятости Александра Серафимовича рукопись, посланная Михаилом по почте, попала к заместителю Серафимовича Лузгину, одному из вождей ВАППа. Фамилия его вполне соответствовала характеру. За приветливой внешностью скрывался человек дрянной и завистливый. Обладая столь же интриганской натурой, как и его друзья-напостовцы, Лузгин, однако, не обладал таким авторитетом и своеобразным обаянием, как, например, Авербах. Серафимовичу он был навязан в заместители вапповской верхушкой. Но поскольку Лузгин входил в ядро напостовства, а Серафимович нет, то Лузгин, по сути, являлся «рабочим» главным редактором «Октября», а Серафимович — «почетным».
Когда Михаил сам приехал в Москву и появился в «Октябре», Лузгин встретил его с резиновой улыбкой:
— Читаем, читаем! Это, и впрямь, труд не мальчика, но мужа.
— Надеюсь, дадите и Александру Серафимовичу, — сказал Михаил. — Он тоже хотел прочесть.
— А вы никому, кроме Александра Серафимовича, больше не доверяете? — не убирая с лица лучезарной синтетической улыбки, вкрадчиво осведомился Лузгин.
— Я доверяю всем. Но Серафимович — мой крестный в литературе, — отрезал Михаил.
— Обязательно дадим! Как же без Александра Серафимовича?
Но опасения Михаила оказались совсем не напрасны. Серафимович вскоре захворал, а Лузгин и не подумал дать ему рукопись, однако позаботился, чтобы вапповцы, члены редколлегии, ее прочитали. Потом он вызвал Михаила для беседы — без Серафимовича.
Лузгин по-прежнему улыбался, хотя и не так широко, как в первый раз. В витиеватых выражениях похвалил роман, именуя его «первой частью», а потом перешел к главной теме беседы.
— Однако редколлегия абсолютно единодушно отметила и существенные недостатки первой части романа. — Лузгин откинулся на спинку кресла и значительно посмотрел на Михаила.
Как можно равнодушней, стараясь не выдать своего волнения, Михаил сказал:
— Ну что ж, без недостатков, видимо, в таком деле не бывает. Прошу только уточнить: вы говорите о первой части книги? Или вы так называете обе книги романа?
Лузгин покраснел.
— Я говорю о всей рукописи в целом, которая, как сообщил мне Александр Серафимович, составляет около половины романа. Правильно?
Михаил кивнул.
— Вы совершенно правы, говоря, что без недостатков никогда не обходится. Но, вы знаете, странное впечатление возникло у меня и у товарищей: роман, безусловно, на голову выше «Донских рассказов», но в то же время имеет недостатки, которых в «Донских рассказах» не было. Получается прямо по названию статьи Владимира Ильича: один шаг вперед, два шага назад.
Михаил шевельнулся. Он мгновенно понял, куда клонит Лузгин, и решил свалять «красного казачка».
— Вы намекаете, что я оппортунист, что ли? — прищурившись, спросил он. — Вы знаете, когда я был продкомиссаром, за такое словечко можно было моментально отправиться в «штаб Духонина». Матерное слово прощали — чего не скажешь сгоряча? — а вот «оппортуниста» нет. — Глядя исподлобья на Лузгина, он полез в брючный карман.
Лузгин побледнел. «Возьмет и пальнет — с него станется!» — пронеслось у него в голове. Михаил же не торопясь вытянул из кармана носовой платок, звучно высморкался, положил платок обратно. Лузгин поджал губы, криво улыбнулся.
— Ваши слова похожи на правду, — сказал он не без ехидства, — потому что многие герои «Донских рассказов» действовали именно так. Не могу сказать этого про Григория Мелехова. Предположу даже, что у него вообще слабо развито революционное чутье. Знает он только одно — обиду. Обидели его господа — он против господ, а обидели ненароком красные — так он против красных. Я, разумеется, понимаю, что такие люди в жизни встречались — но ведь он главный герой романа пролетарского писателя! А красные казаки, изображенные вами, как правило, второстепенные герои. Да и не очень привлекательны они, откровенно говоря. Кошевой, Александров униженно благодарят карателей за то, что их выпороли. Я спрашиваю себя: какова главная мысль этого прекрасно написанного произведения, половину которого я уже прочел? Поворот казачества и главного героя Григория Мелехова, в частности, к революции? Не сомневаюсь, что это так. Вы же не антисоветский роман пишете! Тогда, задаю я себе другой вопрос, зачем эти сентиментальные, многостраничные описания патриархального казачьего быта? Вы неминуемо внушаете читателям мысль, что это все рухнуло благодаря революции. Поверят ли они в искренность вашего героя, когда вы наконец приведете его в стан большевиков? Для того чтобы поверили, вам следовало резче показать тот «идиотизм деревенской жизни», о котором писал Маркс. Непонятно мне: где казачья беднота, батраки, иногородние? Это все те же Котляров, Кошевой, Валет? Разве их было на Дону так мало? Даже самые удачные страницы романа, посвященные любви Григория и Аксиньи, испорчены бесклассовым подходом. Почему вы улыбаетесь?
— Да какой же классовый подход в этом деле? — с нарочитым смирением осведомился Михаил. — Может, вы объясните мне, а то я женат уже четвертый год, а не знаю.
— Оставим насмешки! В прогрессивной русской литературе, начиная с «Грозы», давно уже сложилась традиция изображения любви, ломающей сословные и религиозные предрассудки. И любовь Григория к Аксинье должна была знаменовать собой протест против них! Поначалу так и кажется, но что же вышло в итоге? Григорий с каким-то животным равнодушием соглашается жениться на кулачке Наталье, а Аксинья, цельная, любящая натура, отдается развратному барчуку. Допустим, что и это возможно. Я, как видите, не стремлюсь подходить к вашему роману сугубо догматически. Но почему Григорий, нашедший в себе силы избить Аистницкого, бьет и его жертву — Аксинью? Это что — эгоистичность самца? Такова его любовь? Поневоле приходишь к выводу, когда Григорий возвращается к Наталье, что «незаконная любовь» — это похотливая блажь, а патриархальный, домостроевский уклад — правильный, и нарушать его негоже. И с таким багажом Мелехов придет в революцию? Его возмущает расправа с офицерней под Глубокой, а вот ужасную казнь подтелковцев он наблюдает не только без протестов, а еще и разражается антисемитской тирадой! И все это венчает эпитафия на могиле Валета, в конце второй книги: «В годину смуты и разврата / Не осудите, братья, брата»! Это что — то самое «братство», про которое лживо твердят нам попы? Вы полагаете, что палачи Валета — ему братья? А революция — «смута и разврат»?