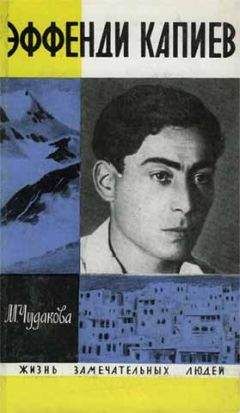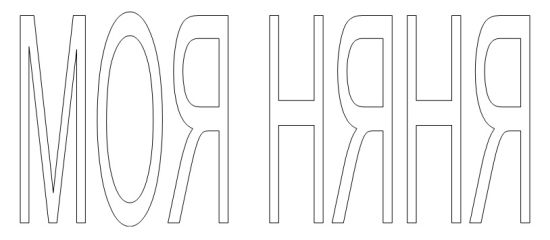Он «принципиально», по собственному его выражению, оставался рядовым. Ему не раз предлагали аттестоваться на офицерский чин, но он неизменно отказывался. Так легче было сойтись с бойцами, заговорить с ними — сразу, без подготовки, в случайных обстоятельствах. «…Я не раз видел, — вспоминал его фронтовой товарищ, — как Эффенди в своей простой длиннополой шинели…с вещевым мешком за плечами садился с бойцами на завалинки, покуривал, разговаривал — все это очень просто. Они не замечали его, когда он останавливался послушать их спор или интересный рассказ. Другое дело — если подойдет офицер. Иногда его окликали — попросить спички… Но все же шинель без погон офицера — это наверняка кузов вместо кабины, это и необходимость встать вместе с бойцами, когда появится даже младший офицерский чин, — неудобно же сидеть, как на «гражданке», нарушая общий порядок, — это и грубоватый окрик шофера и прочее, и прочее. Как писатель, Эффенди находил в этом определенные выгоды для себя…»
Ему становилось между тем все хуже. Боли почти не утихали. В кузове, в котором трясся Капиев по дорогам войны, он часто лежал скорчившись, пережидая очередной приступ. Иногда по нескольку дней приходилось довольствоваться черными сухарями — для больного язвой диета убийственная. Очень редко удавалось выменять на что-нибудь спасительный стакан молока.
Но он ездит, смотрит, пишет. Каждый день он записывает — свои мысли, разговоры, переписывает письма убитых солдат, фиксирует разнообразные подробности поведения людей на войне. В этих поспешных, отрывочных записях люди, через день, быть может, уже убитые, получали второе существование, начинали свой долгий путь во времени. Судьба у них была общая; говорили же они разными голосами. «Боец-разведчик Шейхов, лезгин, пишет письмо своей жене, мучительно думая, уединяясь. Оказывается, он все выдумывает ласковые слова, ласковые прозвища своей жене, ибо это единственное, что он еще может послать в подарок ей отсюда, с этих суровых, пустынных кладбищ, — ласка.
«Душа моя, свет мой, слеза моя!»
«В кармане убитого сибиряка, когда искали смертный медальон, нашли письмо:
«Женушка моя, Анна Дмитриевна, детки мои, Наденька, Колюшка и Володенька! Получили приказ, идем вот в наступление, и меня, чую, убьют. Как мне передать, что я думаю о вас, родные вы мои, Анна Дмитриевна, о милых моих детушках Наденьке, Колюшке, Володеньке моем? Как передать? Пусть ветер, что дует отсюда, донесет до вас, колос к колосу наклоняется, колос к колосу, травка травке нашептывая, родные вы мои…»
Девушка, отчаянная разведчица («подстрижена под мальчика, чуб, бритый затылок, синее галифе…»), рассказывала ему о себе. Два года пробыв в разведке, она уже не мыслит себя вне этого. «Меня ранило, и уложили в госпиталь. Врач отбирает оружие. Я врача табуреткой. Я говорю: «Вы на разведчицу наскочили, сами не рады будете. Не дам оружия!» Взяла халат и в халате убежала в свою часть. Они, говорю, не лечат, а только уколы делают. Одежа вся осталась в госпитале, — я с пистолетом и в халате. Пускай говорю, черт с ней, с одежей.
Здесь воюют, а там скучно. Ох, люблю разведку. М-м! Все отдам! Ой, мамочки!
В халате этом я потом ходила в разведку зимой, он у меня вместо маскировки. Вот лежим на льду — у нас задание: минное поле разведать. Лежим под Таганрогом. Утром грохнула мина рядом. На рукаве моем кровь. Я молчу. Нельзя было срывать задачу. Оглохла, рука вся черная, и будто ничего не случилось, лежу с ребятами. Полтора месяца потом ничего не слышала… Ничего… У нас в разведке все равно ведь разговоров нет, все знаками объясняются».
Внимание его к тем, кого он делал «персонажами» своих записей, было живым, сострадательным. «Когда одному азербайджанцу, исхудалому, заросшему бородой, в грязной шинели бойцу, я сказал ласковое слово (кажется, назвал его братом и успокоил, что его, больного, не пошлют в атаку), азербайджанец вдруг заплакал.
«— Ай, спасиба, я матери своей напишу! Ты добрый человек…
И утирает слезу, беспомощный, как ребенок».
Записи были для него лишь материалом для будущих книг, но незаметно, быть может, для него самого перерастали в нечто большее. В них не было попыток выработать тут же литературный канон — что и оказалось потом особенно ценным. Они свободны в самом отношении к материалу, который автор не спешит деформировать, оставляет его пока «как есть», доверяя безусловной ценности всего увиденного — каким бы разным, несоединимым оно ни казалось. Он надеется разобраться со всем этим позднее.
Будущие книги он обдумывает, однако, уже сейчас. За два года войны самые разные планы сменились в его мыслях. Весной 1943 года он написал Роману Фатуеву: «Есть у меня и материала достаточно, и тем, и способностей, чтобы написать героическую грустную пьесу — но охоты нет!.. Ей-ей, я не обольщаюсь и не преувеличиваю своих возможностей. Первое действие я отмахал «шутя», в два дня, и с трудом укротил себя, чтобы не написать сразу всю пьесу. Зачем удержал? А все по тем же причинам — я сидел и горько улыбался сам над собою: ага, вот и способности есть, и талантишко не хуже многих, и уменье, и ум, а все-таки ты нуль, и никому ты не нужен, и твою пьесу не успеют прочесть в крайтеатре, как все полетит… Кстати, имея все возможности аттестоваться и ходить минимум майором — я принципиально остаюсь рядовым и хочу остаться таковым до конца войны… А планы у меня все-таки помимо моей воли уже оказываются выработанными. Я задумал грандиозную книгу, лихорадочно собираю материалы, ради материала этого терплю и мат, и шоферов, и трудную судьбу рядового, и часто (могу тебя уверить в этом), очень часто рискую жизнью и всем. Зато если повезет мне — то хоть старость моя будет озарена счастьем удачи…»
Он все еще готов начать Все сначала, готов заново отстроить свой разрушенный войною дом.
Все больше он склоняется к мысли о прозе — по-видимому, к своеобразной хронике войны. В 1943 году он объяснял жене: «Я хотел бы показать фронт и тыл, как видишь пейзаж из окна мчащегося поезда. Глаз охватывает и лица людей, близлежащие предметы — крупным планом, с деталями, — и даль огромного горизонта в его масштабности, — все в единстве, в беспрестанном движении, в смене фигур, событий, обстановки…» Быть может, это обилие впечатлений еще не выпускало его из-под своей власти и диктовало столь широкую форму. Быть может, позже книга приобрела бы совсем другие очертания, — и война рассмотрена была бы в ней менее масштабно и более пристально — все это осталось навсегда неизвестным.
Но он присматривался и к тому, что пишут вокруг, что печатают, что «хвалят». Как всегда, это не проходило для него бесследно. Осенью 1942 года он писал из армии Р. Фатуеву: «Читал ли ты в «Правде» Корнейчука «Фронт»? У нас здесь только и разговоров о пьесе: обсуждаем, спорим и «прорабатываем». Подобной чести не удостаивалась еще ни одна пьеса — быть целиком напечатанной в центральном органе партии. Положа руку на сердце, надо сказать: пьеса стоящая!.. Я, как никогда, поверил в драматургию и, коли жив останусь, непременно (так и знай!) напишу пьесу, — чем черт не шутит!..»