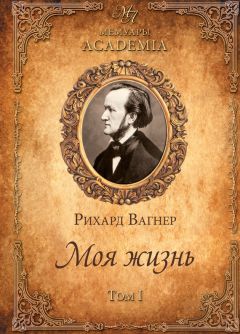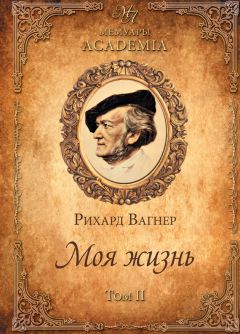Жилось нам, таким образом, трудно. Тем не менее от времени до времени по вечерам, когда случались гости, бывало и у нас весело. Мне, мальчику, эти вечера казались прямо блестящими. После смерти отчима, доходы которого как портретиста достигали значительных для того времени размеров, у нас сохранились кое-какие приятные знакомства с людьми, принадлежащими к лучшим классам общества. Эти знакомые не забывали нас. Кроме того, члены придворного Дрезденского театра, с которыми мы поддерживали отношения, представляли собой круг приятных, живых и интересных людей, о которых впоследствии в Дрездене не сохранилось никаких воспоминаний. Особенно охотно устраивали мы пикники, прогулки по прекрасным окрестностям города, и на этих прогулках царило обыкновенно товарищеское артистическое оживление.
Помню одну такую прогулку в Лошвиц [Loschwitz]. Мы устроили там своего рода цыганскую палатку, и Карл Мария фон Вебер исполнял у нас функцию повара. Дома у нас, кроме того, музицировали: сестра Розалия играла на рояле, Клара начала тогда петь. Ставились и домашние спектакли. В те времена было в обычае устраивать такие спектакли в виде сюрприза ко дню рождения одного из родителей, и предприятия эти были связаны с большими приготовлениями. Вспоминаю, что в одном из таких спектаклей принимал участие и я.
Ставилась пародия на «Сафо» Грильпарцера[56], и я был в хоре уличных мальчишек, шедшем за триумфальной колесницей Фаона[57]. Это представление освежается у меня воспоминанием о превосходном кукольном театре, оказавшемся среди вещей моего покойного отчима. Театр был снабжен прекрасными декорациями, написанными им самим. У меня явилась мысль поразить домашних блестящей инсценировкой какой-нибудь пьесы. Вырезав из дерева несколько нелепых кукол, я сшил им разнообразные костюмы из украденных у сестер лоскутков и приступил к сочинению рыцарской драмы, все роли которой должны были исполняться куклами. Когда я набросал первую сцену, сестры нашли рукопись и жесточайшим образом высмеяли меня. Одну фразу испуганной героини: «Ich höre schon den Ritter traben»[58] – они, к моему величайшему огорчению, любили патетически цитировать при каждом удобном случае.
Интерес к театру, к которому наша семья и теперь стояла очень близко, воскрес во мне с новой силой. Особенно действовал на мою фантазию «Фрейшютц», главным образом своим сказочным сюжетом. Страх перед привидениями и вообще эмоция ужаса играли серьезную роль в развитии моего душевного строя. С самого раннего детства все необъяснимое, таинственное производило на меня чрезвычайное действие. Припоминаю, что даже неодушевленные предметы, как мебель, нередко пугали меня: если я долго оставался один в комнате и сосредоточивал на них свое внимание, то начинал вдруг кричать от страха, так как мне начинало казаться, что эти предметы оживают. До самой моей юности не проходило ни одной ночи, чтобы меня не посетили во сне привидения и чтобы я не просыпался с ужасным криком. Я не переставал кричать до тех пор, пока чей-нибудь человеческий голос меня не успокаивал. Самая жестокая брань и даже побои являлись для меня тогда лишь благодеянием, освобождая от невыразимого ужаса. Никто из моих сестер и братьев не хотел спать вблизи меня, и меня укладывали как можно дальше от других, не соображая, что крики о помощи становились от этого только громче и продолжительнее. В конце концов к ночным скандалам все-таки привыкли.
В связи с этой склонностью к таинственному находилось и увлечение театром. Меня притягивали к себе сцена, кулисы, уборная, но не для раз-влечения и интересных разговоров, как это бывает с обыкновенной театральной публикой. Меня привлекало волнующее общение с элементом, ничего общего не имеющим с обыденной жизнью, соприкосновение с до ужаса интересным миром живой фантазии. Какая-нибудь декорация, или даже часть декорации, кулиса, изображающая куст, какой-нибудь костюм, или даже одна характерная деталь такого костюма производили на меня нередко впечатление чего-то, принадлежащего к иному миру, и казались мне, таким образом, привидениями. Все это переносило меня из равнодушной действительности и повседневной рутины в демонический мир очарований.
Таким образом, все, что имело отношение к театральным представлениям, было для меня окутано таинственной дымкой, опьяняло дух. Я с увлечением играл с детьми моего возраста «Фрейшютца», всецело отдаваясь при этом нелепому раскрашиванию курьезных костюмов и масок. Прикосновение к отдельным нежным частям театрального гардероба моих сестер, исправлением которых часто бывали заняты в нашей семье, производило тонкое, возбуждающее действие на мою фантазию. Иногда такое прикосновение в состоянии было вызвать у меня сильнейшее, жуткое сердцебиение. Несомненно, на развитие во мне ощущений такого характера сильно влияло то обстоятельство, что я рос исключительно среди женщин, хотя, как я уже говорил, нежные и сентиментальные чувства не были в ходу у нас в семье. Может быть, однако, именно потому что меня окружала такая беспокойная, несколько даже резкая атмосфера, всякие атрибуты женственности, в особенности если они были связаны с фантастическим театральным миром, болезненно привлекали и волновали меня.
8
К счастью, в противовес этим фантастическим настроениям, полным то ужаса, то порывов нежности, школа, ее учителя и товарищи действовали на меня в совершенно противоположном смысле: это было серьезное и укрепляющее влияние. Однако и здесь я охотно воспринимал только то, что задевало мою фантазию. Были ли у меня способности к наукам, не могу судить. Говоря вообще, я быстро, почти не учась, усваивал то, что живо меня интересовало, а к тому, что не задевало моего воображения, я не пытался даже проявить настоящего прилежания. Яснее всего это сказалось в арифметике, позднее в математике: мне никогда не удавалось заставить себя как следует обдумать условия какой-нибудь задачи. И в изучении древних языков я проявлял усердие лишь настолько, насколько это нужно было, чтобы уловить смысл прочитанного, характеристические черты какого-нибудь предмета. В этом смысле меня больше привлекал греческий язык, так как образы греческой мифологии положительно приковывали к себе мою фантазию, и мне хотелось, чтобы ее герои говорили со мною на родном для них языке: таким путем я надеялся дать удовлетворение страстному желанию совершенно войти в их мир.
Само собой разумеется, что при этих условиях собственно грамматика как наука меня вовсе не интересовала, а, напротив, только мешала мне. Что в моих занятиях древними языками я не сделал особенно глубоких успехов, видно из того, с какой легкостью я впоследствии их забросил. Лишь много времени спустя я действительно серьезно заинтересовался языкознанием вообще, когда познакомился с физиологически-философской разработкой этой науки, как поставлена она нашими новыми германистами, последователями Якоба Гримма[59]. Но тогда было уже поздно основательнее заняться этим предметом, хотя он и стал мне так мил, и мне остается только пожалеть, что новый метод изучения языков не применялся в дни моей юности в наших гимназиях.
Тем не менее мои успехи на поприще филологии обратили на себя особенное внимание одного молодого учителя в гимназии Святого Креста, магистра Зиллига[60]. Он разрешил мне приходить к нему почаще и приносить на просмотр работы, заключавшиеся в метрических переводах и в собственных поэтических произведениях. Особенно, по-видимому, полюбил он меня за мои способности к декламации. Насколько он меня высоко ценил в этом отношении, видно из того, что мне, двенадцатилетнему мальчику, он доверил произнесение с кафедры не только «Прощания Гектора с Андромахой» из Илиады, но и знаменитого монолога Гамлета.
В то время – я был тогда в четвертом классе – умер у нас внезапно ученик по имени Штарке [Starke]. Это печальное событие до такой степени возбудило общее сочувствие, что не только весь класс должен был принять участие в похоронах товарища, но ректор, кроме того, поручил нам написать стихотворение по этому случаю: это стихотворение должно было быть прочитано на могиле товарища и напечатано. Поданные стихотворения, и между ними мое, написанное торопливо, наспех, оказались, однако, по мнению ректора, настолько не заслуживающими особенного внимания, что он уже отказался было от своего первоначального плана и решил выступить сам с надгробным словом. Огорченный, я разыскал поскорее магистра Зил-лига, чтобы упросить его походатайствовать перед ректором в пользу моего стихотворения. Мы просмотрели его вместе снова. Красиво построенные, хорошо срифмованные восьмистрочные стансы понравились ему по своей форме, и это заставило его вникнуть в их содержание. Стихотворение было полно высокопарных образов, совершенно не подобающих мальчику моего возраста. Помню, там было место, написанное под большим влиянием монолога из аддисоновского «Катона»[61], где речь идет о самоубийстве. Нашел я этот монолог в одной английской грамматике. Слова: «и если б солнце почернело от старости, и звезды, усталые, упали на землю», слишком напоминавшие упомянутый монолог, вызвали на лице Зиллига почти обидную усмешку. Однако благодаря его стараниям и быстроте, с какой он очистил стихотворение от подобных украшений, я добился того, что оно было все-таки принято ректором, отпечатано и роздано в большом количестве экземпляров.