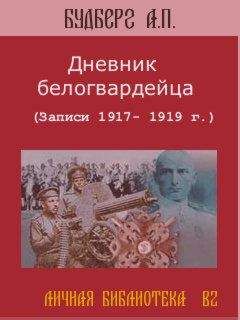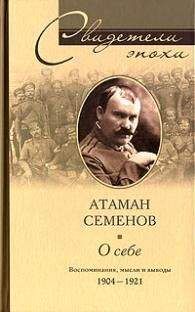Я не понимаю совершенно командующего армией, бесстрастно, как автомат, передающего нам к исполнению подобные нелепые и, как он сам отлично знает, абсолютно невыполнимые приказания. Несомненно, что тут часть вины лежит на начальнике штаба генерале Свечине, помешанном на разных стратегических выкрутах вне времени, пространства и всей наличной обстановки.
Несмотря на усталость, набросал короткий, но вразумительный доклад о невозможности исполнения и с офицером отправил в Двинск.
10 Октября.
Утром срочно вызвали в Штаб армии на совещание всех корпусных командиров. Как обыкновенно, много пустяковых разговоров на нестоящие выеденного яйца темы; длиннее и скучнее всех мямлил и бубнил командир 19 корпуса генерал Антипов, имеющий удовольствие командовать архибольшевистским корпусом; он же высказывался за наступление и уверял, что может занять Иллукст, чему придавал, неизвестно по какой причине, огромное значение. Остальные командиры, из недавно назначенных, видимо боялись скомпрометировать себя на счет "паничности", и поэтому в вопросе о наступлении не говорили ни "да", ни "нет". Болдырев держал себя очень решительно, разрубал все Гордиевы узлы; на заявление командира 27 корпуса, что лошади падают и не на чем подвозить снаряды, Болдырев выпалил: "ну и пусть падают".
На подобные нелепости способны только такие верхогляды и быстролетные карьеристы, которые никогда на своей шкуре, на своих нервах и совести не испытали всех ужасов и всех тяжестей таких положений.
Когда очередь дошла до меня, то я резко, определенно и решительно заявил, что сейчас даже и заикнуться нельзя о наступлении; юлить и молчать не приходится, и мы, стоящие у войск и знающие их настроение, обязаны твердо сказать верхам правду и заявить о необходимости раскрыть глаза и перестать играть в какие-то прятки. Мы тяжко больны, неспособны к боевой работе, и нам нужно спокойствие и отсутствие потрясений; в этом весь оставшийся у нас шанс на то, чтобы справиться с надвигающейся на нас лавиной развала. Никакими самыми грозными приказами и решительностью теперь уже не помочь; сломанной во многих местах палкой нельзя наносить сокрушительных ударов; наша же командирская палка сломана так, что рассыплется на куски при первом ею размахе.
Мое мнение сейчас сводится к тому, что надо распустить армию и оставить только добровольцев, обеспечив их во всех отношениях самым лучшим образом; я, считаю, что останется около миллиона, а этого вполне достаточно, чтобы продолжать оборонительную войну при тех технических средствах снабжения, которые теперь у нас есть. Образовавшиеся кое-где ударные батальоны служат отлично, дерутся геройски и на них надо базироваться; действия этих батальонов во время июльского наступления и при рижском прорыве, где такой батальон 38 дивизии буквально спас все положение, безупречная служба ударного батальона 120 дивизии дают полное право надеяться, что с этими частями мы удержим фронт, особенно если нас не будет трогать и губить тыл. Ведь в этом последний шанс и единственный исход, так как с войсками, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, мы не только не можем наступать, но не выдержим даже более слабого удара, чем то было под Ригой и Якобштадтом.
Мне истерически возражал Антипов на тему "не разрушайте организации". Я ему ответил, что как же можно говорить о спасении организации, когда она вся сгнила и сгнившее заражает последние остатки здорового; в катастрофические времена нельзя жить ответами шаблончиками и прогнившей рутиной. Преступно закрывать глаза на происходящее: язва расползается, она захватила последние еще державшиеся части: мой корпус и кавалерию, и я официально докладываю, что мой корпус к бою неспособен, приказов не слушает.
Остальные командиры корпусов одобрительно мне поддакивали, но когда надо было решительно высказаться, то замолчали, и в результате все совещание свелось к толченью воды в ступе.
Болдырев произвел на меня отрицательное впечатление; какой то усугубленный момент былых времен под густым академическим соусом, важен, категоричен, больше, чем надо, хвастается своим опытом, а какой это опыт, мы все в действительности знаем очень хорошо: все больше по части верхоглядного летания по штабам; у него даже нет привычки к огню, что он показал, когда был у меня на участке и шарахался от каждого выстрела. Своего мнения у него нет, болтается, как флюгер на слабой оси.
Пришедшие с тылу газеты совсем скверные; шансы большевиков идут, по-видимому, быстро в гору; для этого теста присланы из Германии хорошие дрожжи и опара на них поднимается чудесная; развал последних остатков государственности идет в тылу на всех парах; дерзость и преступление подняли голову и пируют. Анархия и погромы разливаются по стране широкой волной; реальной власти нет, ибо разговоры и резолюции это не власть; сил и средств борьбы с анархией нет и им неоткуда явиться. Клетки раскрыты, дикие звери выпущены и их поводыри обречены нестись впереди и давать зверью все новые и новые подачки; ни остановить, ни, тем паче, вернуть в клетки уже нельзя. Происходит крах еще небывалого в истории размера, трещат и разрываются все связи, рушатся стены и сыпятся камни повторяется сон Навуходоносора.
Положение так плохо и катастрофа надвигается так стремительно, что теперь и варяги уже не успеют нас спасти, если бы даже и захотели сделать. Понимают ли они хоть сейчас, какими последствиями грозит им их слепота и нерешительность; их представители носятся всюду как потревоженные пчелы, нюхают, соболезнуют, высказывают надежду, что все образуется ...
Филькина грамота, данная товарищу Скобелеву, служить благодатным материалом для издевательства газет; особенно ядовита статья Пиленко, остроумно доказывающая, что первоначально этот наказ был написан по-немецки, а потом уже переведен на русский язык.
11 Октября.
Первая бригада 70-й дивизии окончательно закинулась: оба полка наотрез отказались исполнить приказ по дивизии о переходе к Двинску для последующей смены стоящих на позиции полков 18 дивизии. Сегодня им повезли приказы и увещевания армейского комиссара, но какая может быть надежда на успех, если товарищи не хотят работать, не хотят подвергать свою жизнь опасности, и знают, что никто уже не может силой заставить их подчиниться приказу. Полгода продержалась моя старая дивизия, но и ей пришел неизбежный конец - воинская часть умерла, а осталось только одно название.
Донес командующему армией и сообщил армейскому комитету, добавив, что в моем распоряжении нет средств заставить эти полки повиноваться. Посылая это донесение, пережил тяжелые минуты, так как тут не только факт крушения огромной полугодовой работы, но и мане-текелъ-фарес для всего будущего, исчезла последняя ничтожная иллюзия на возможность задержать летящую вниз колесницу, и теперь весь вопрос только в том, насколько далеко до дна и что окажется там на дне. Конечно, все это было давно неизбежно, но со свойственной человеку слабостью, я продолжал цепляться за возможность какой то передышки и чуда.