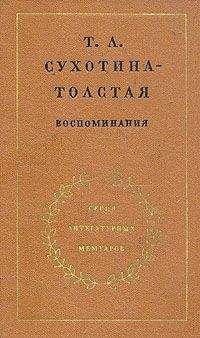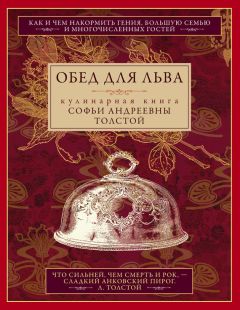И в детстве и позднее мы редко слышали от него замечания, — но если папа нам что-нибудь сказал, то это не забывалось и исполнялось беспрекословно.
В свободное от занятий время папа был самым веселым человеком, какого я когда-либо знала. С ним всегда бывало весело: казалось — стоило ему показаться, как сейчас же начиналось что-нибудь очень интересное и забавное. Казалось, что приливала какая-то новая волна жизненной энергии.
Меня он звал «Чуркой», и это прозвище очень мне нравилось, потому что он употреблял его тогда, когда бывал весел и когда хотел меня приласкать или пошутить со мной.
За всю мою жизнь то особенно сильное чувство любви и благоговения, которое я испытывала к отцу, никогда не ослабевало. И по тому, что я сама помню, и по тому, что мне рассказывали, — и он особенно нежно всегда ко мне относился.
Помню я, как я иногда забиралась к нему на колени и принималась щекотать его под мышками и за воротом. Он боялся щекотки и начинал хохотать, кричать и отбиваться.
А мне было весело, что вот такой сильный, важный человек, который все может, — в моей власти.
Мне было только два года, когда он раз на довольно долгий срок уехал от нас в Москву. И я тогда уже тосковала по нем. Мама ему пишет в Москву:
«Таня сейчас ко мне подошла и говорит: „Сымите со стенки папашу — я его погляжу…“» 19
И через два дня опять пишет:
«Они часто о тебе спрашивают, и Таня вдруг, юродствуя, стала глядеть под скамейку и кликать тебя: „Папаша! папаша!“» 20 А в 1869 году, когда мне шел пятый год, папа уехал в Пензу смотреть имение, которое он думал купить. И я очень о нем скучала.
«Как Таня маленькая о тебе много спрашивает и говорит при каждом удобном случае — это бы тебя радовало, если б ты слышал», — пишет ему мама21.
«Целый день только о тебе и речь. „Что-то наш папаша теперь делает в Пензе“ или „я думаю, что на этой машине наш папаша едет“,[17] или „теперь он, может быть, приехал в Тулу“. Вчера играли, и она лошадь приставила к креслу и говорит: „Ну, теперь я за папашей в Пензу поеду, а то он долго не едет“. И после дети все кончили играть, — и она, задумавшись, все сидела, лошадь погоняла и говорит: „А мне еще далеко до Пензы ехать, я папашу привезу…“» 22 И вот папаша приезжал, и мы опять были счастливы и довольны.
Была одна игра, в которую папа с нами играл и которую мы очень любили. Это была придуманная им игра.
Вот в чем она состояла: безо всякого предупреждения папа вдруг делал испуганное лицо, начинал озираться во все стороны, хватал двоих из нас за руки и, вскакивая с места, на цыпочках, высоко поднимая ноги и стараясь не шуметь, бежал и прятался куда-нибудь в угол, таща за руку тех из нас, кто ему попадались.
«Идет… идет…» — испуганным шепотом говорил он.
Тот из нас троих, которого он не успел захватить с собой, стремглав бросался к нему и цеплялся за его блузу. Все мы, вчетвером, с испугом забиваемся в угол их бьющимися сердцами ждем, чтобы «он» прошел. Папа сидит с нами на полу на корточках и делает вид, что он напряженно следит за кем-то воображаемым, который и есть самый «он». Папа провожает его глазами, а мы сидим молча, испуганно прижавшись друг к другу, боясь, как бы «он» нас не увидал.
Сердца наши так стучат, что мне кажется, что «он» может услыхать это биение и по нем найти нас.
Наконец, после нескольких минут напряженного молчания, у папа лицо делается спокойным и веселым.
— Ушел! — говорит он нам о «нем».
Мы весело вскакиваем и идем с папа по комнатам, как вдруг… брови у папа поднимаются, глаза таращатся, он делает страшное лицо и останавливается: оказывается, что «он» опять откуда-то появился.
— Идет! Идет! — шепчем мы все вместе и начинаем метаться из стороны в сторону, ища укромного места, чтобы спрятаться от «него». Опять мы забиваемся куда-нибудь в угол и опять с волнением ждем, пока папа проводит «его» глазами. Наконец, «он» опять уходит, не открыв нас, мы опять вскакиваем, и все начинается сначала, пока папа не надоедает с нами играть и он не отсылает нас к Ханне.
Нам же эта игра, казалось, никогда не могла бы надоесть.
Также любили мы один незатейливый рассказ папа, которому он умел придать большое разнообразие интонациями и повышением и понижением голоса.
Это был рассказ «про семь огурцов».
Он столько раз в своей жизни рассказал его мне и при мне другим детям, что я помню его наизусть. Вот он:
— Пошел мальчик в огород. Видит, лежит огурец. Вот такой огурец (пальцами показывается размер огурца). Он его взял — хап! и съел! (Это рассказывается спокойным голосом, на довольно высоких тонах.) — Потом идет мальчик дальше — видит, лежит второй огурец, вот такой огурец! Он его хап! и съел. (Тут голос немного усиливается.) — Идет дальше — видит, лежит третий огурец: вот тако-о-й огурец… (и папа пальцами показывает расстояние приблизительно в пол-аршина) — он его хап — и съел. Потом видит, лежит четвертый огурец — вот та-коо-о-о-й огурец! Он его ха-а-п! и съел.
И так до седьмого огурца. Голос у папа делается все громче и громче, гуще и гуще…
— Идет мальчик дальше и видит, лежит седьмо-о-о-й огурец. Вот тако-о-о-ой огурец! (И папа растягивает в обе стороны руки, насколько они могут достать.) Мальчик его взял: ха-а-а-ап! xa-a-a-ап! и съел.
Когда папа показывает, как мальчик ест седьмой огурец, то его беззубый рот открывается до таких огромных размеров, что страшно на него смотреть, и руками он делает вид, что с трудом в него засовывает седьмой огурец…
И мы все трое, следя за ним, невольно так же, как и он, разеваем рты и так и сидим с разинутыми ртами, не спуская с него глаз.
Еще с папа бывало веселое занятие — это по утрам, когда он одевается, приходить к нему в кабинет делать гимнастику. У него была комната, теперь не существующая, с двумя колоннами, между которыми была вделана железная рейка. Каждое утро он и мы упражнялись на ней.
Делали мы и шведскую гимнастику, причем папа командовал:
— Раз, два, три, четыре, пять. — И мы, напрягая наши маленькие мускулы, выкидывали за ним руки: вперед, вбок, кверху, книзу, кзаду.
Папа был замечательно силен и ловок и всем нам, детям, передал исключительную физическую силу.[18]
После гимнастики папа уходил «заниматься», и в это время никому не разрешалось ходить к нему и беспокоить его. Говорили мне, что я одна пользовалась этим правом и одной мне папа позволял приходить к себе во время занятий. Но я этого не помню, а помню, что я до конца его дней боялась помешать работе его мысли, которую я всегда уважала и считала нужной и важной.
В детстве я бессознательно чувствовала, что такой человек, как мой отец, не может заниматься пустяками. А в зрелые годы, участвуя в его работе, я поняла и признала все ее значение.