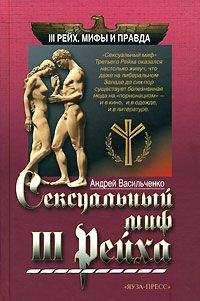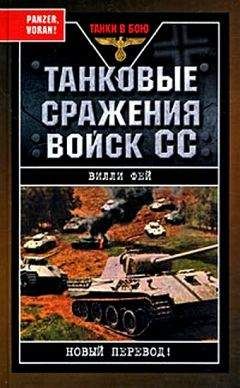Спустя всего сутки штаб Гудериана в Цоссене получил подтверждение, что до начала советского наступления осталось уже не несколько дней, а, скорее, несколько часов. Саперы Красной Армии расчищали ночью минные поля, а танковые корпуса заняли исходные позиции для атаки. Гитлер приказал выдвинуть вперед немецкие танковые резервы, находящиеся на Висле, невзирая на предупреждения, что они окажутся в пределах досягаемости огня советской артиллерии. Некоторые старшие германские офицеры поневоле стали подумывать нет ли у фюрера подсознательного желания поскорее проиграть войну.
Казалось, для Красной Армии стало обычным начинать наступление при плохих погодных условиях. Привыкли к этому и ветераны германских частей, которые говорили, что как раз настала "погода для русских"{26}. Советские военные также были убеждены, что они имеют преимущество именно в зимних кампаниях, будь то морозы или распутица. Сравнительно низкий уровень обморожений в Красной Армии объяснялся тем, что советские солдаты использовали грубую, но теплую обувь и носили портянки вместо носков. По прогнозам, ожидалась "странная зима"{27}. После крепких январских морозов "сильные дожди и мокрый снег"{28}. В войска поступил приказ: "Привести в порядок кожаную обувь".
К этому времени Красная Армия значительно увеличила свою боевую мощь. По таким критериям, как количество и качество тяжелого вооружения, профессионализм в планировании операций, маскировка и управление войсками, преимущество чаще всего оказывалось на ее стороне. Но недостатки все еще оставались. Самой сложной проблемой было отсутствие в частях надлежащего уровня дисциплины, что являлось достаточно удивительным для тоталитарного государства. Частично эта проблема объяснялась жутким положением, в котором находились молодые офицеры.
То была действительно тяжелейшая школа для восемнадцати - или семнадцатилетних младших лейтенантов, прошедших ускоренную подготовку и оказавшихся командирами стрелковых подразделений. "Молодые люди, - отмечал писатель и военный корреспондент Константин Симонов, - тогда взрослели за год, за месяц, за один бой"{29}. Для многих из них первый бой был и последним. Решив доказать, что они способны командовать солдатами, которые часто годились им в отцы, они проявляли безрассудную храбрость и становились ее жертвами.
Недисциплинированность проистекала также и от антигуманного отношения советского командования к солдатам Красной Армии. И конечно же, от силы и слабости русского национального характера. "Русский пехотинец, - заметил один писатель, - вынослив, неприхотлив, беспечен и убежденный фаталист... Эти черты делают его непобедимым". Военнослужащий одной из стрелковых дивизий Красной Армии обобщил свои наблюдения о различных состояниях и настроениях его товарищей в дневнике: "Первое: без начальства. Тогда он брюзга и ругатель. Грозится и хвастает. Готов что-нибудь слямзить и схватиться за грудки из-за пустяков. По этой раздражительности видно, что солдатское житье его тяготит. Второе: солдат при начальстве. Смирен, косноязычен. Легко со всем соглашается, легко поддается на обещания и посулы. Расцветает от похвалы и готов восхищаться даже строгостью начальства, над которым за глаза куражится. Третье состояние: артельная работа или бой. Тут он - герой. Он умирает спокойно и сосредоточенно. Без рисовки. В беде он не оставит товарища. Он умирает деловито и мужественно, как привык делать артельное дело"{30}.
Танковые войска Красной Армии находились в особенно хорошем состоянии. В начале войны они (как и советская авиация) оказались деморализованы, но теперь обретали героический статус. Василий Гроссман, писатель и военный корреспондент, был почти так же восхищен танкистами, как ранее снайперами в Сталинграде. Он с восторгом называл танкистов "кавалеристами, артиллеристами и механиками в одном лице"{31}. "И всех солдат Красной Армии, конечно, особенно вдохновляло то, что до границ рейха остался всего один, последний бросок. Те, кто издевался над их Родиной, наконец узнают подлинное значение пословицы: "Что посеешь, то и пожнешь"{32}.
Основной замысел кампании в общих чертах был разработан еще в конце октября 1944 года. Во главе Ставки Верховного Главнокомандования стоял Сталин, который присвоил себе маршальское звание еще после битвы под Сталинградом. Он намеревался и впредь держать армию под своим полным контролем. Да, он предоставил командующим такую свободу действий, которой завидовали немецкие военачальники, и, не в пример Гитлеру, внимательно выслушивал контраргументы генералов. Однако Сталин не собирался слишком многого позволять своим командирам, когда победа была уже у порога. Он изменил устоявшуюся практику назначения "представителей Ставки" для надзора за операциями. Это дело он взял на себя, хотя никогда и не посещал какой-либо участок фронта.
Сталин также решил перетасовать своих ключевых командующих. Вследствие этого между ними возникли трения, ревность и обиды{33}, что его нисколько не смущало. Главной рокировкой стала замена на посту командующего 1-м Белорусским фронтом, главной группировки войск на берлинском направлении, маршала Константина Рокоссовского{34}. Рокоссовский, будучи высоким, элегантным и красивым кавалеристом, разительно отличался от большинства других русских командиров, в основном коренастых, с толстой шеей, чисто выбритыми головами. Было и еще одно отличие. Рожденный как Константи Рокоссовски, он являлся наполовину поляком, внуком и правнуком польских кавалерийских офицеров. Это делало его опасным в глазах Сталина. Сталинская нелюбовь к Польше возникла еще в 1920 году, когда на него возложили часть вины за сокрушительное поражение Красной Армии, наступавшей на Варшаву.
Рокоссовский был в ярости, когда узнал, что должен принять командование 2-м Белорусским фронтом и наступать в Восточной Пруссии. Его место, как и ожидалось, занял маршал Георгий Жуков, невысокий ростом, зато очень жесткий командир, который возглавлял оборону Москвы в декабре 1941 года. "Почему такое унижение? - задавался вопросом Рокоссовский. - Почему меня переводят с главного направления на второстепенный участок?"{35} Рокоссовский стал подозревать Жукова, которого считал своим другом, что тот роет под него яму. Но в действительности Сталин просто не желал, чтобы лавры взятия Берлина достались поляку. Ничего необычного не было и в том, что к Рокоссовскому относились с подозрением. Его арестовывали еще во время чисток Красной Армии в 1937 году. Бериевские палачи, требовавшие от каждого обвиняемого признания в измене, могли из самого стойкого человека сделать едва ли не параноика. Да и Рокоссовский знал, что Лаврентий Берия, глава НКВД, равно как и Виктор Абакумов, руководитель контрразведки СМЕРШ, внимательно наблюдают за ним. Для него было понятно, что обвинения 1937 года никуда не исчезли и все еще висят над ним, а он выпущен на волю лишь условно. Любая ошибка могла вновь привести его в тюрьму НКВД. "Я знаю, что Берия может это сделать, - сказал Рокоссовский Жукову во время сдачи командования. - Я был в тюрьме"{36}. Советские генералы ничего не забыли и через восемь лет отомстили Берии.