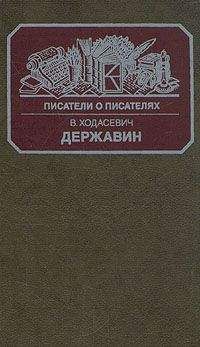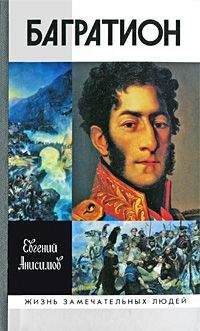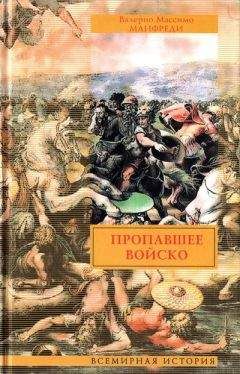Десятки рук подхватили Багратиона и с радостной пылкостью взнесли под потолок. Князю всегда бывала по душе любая солдатская шутка. А эта - в особенности. Лицо его порозовело - значит, сердце забилось легче и вольней. Долго печалиться он не умел и, взлетая все выше, смеялся весело и беззаботно. Вдруг...
Портьера отпахнулась. За ней тихонько притаился Карелин. Старик переживал счастливые минуты. Тщедушное тельце его вздрагивало от непослушных рыданий. Живой пьедестал опустился под Багратионом. Очутившись на собственных ногах, Петр Иванович быстро зашагал к двери. Еще мгновение - и он вывел дворецкого на середину комнаты.
- Здравствуй, любезный Никита! Здравствуй, душа!
Он крепко обнял Карелина. А потом поцеловал его в щеку и громко - так громко, что слова эти были услышаны решительно всеми, - проговорил:
- Без тебя не был бы я тем, чем есть. Спасибо за прошлое, душа, тысячу раз спасибо!
...Поздно вечером Сильвио помогал своему господину раздеваться перед сном. Багратион был задумчив и молчалив. От недавней веселости не осталось в нем и следа. Этому унынию его отвечал мерный стук часов, стоявших в спальне князя на подзеркальнике между окнами. Минутная стрелка на них завершала свой круг. Они четко пробили один раз, и за ними множество других часов, стоявших и висевших в разных комнатах огромного дома, принялись отбивать и отщелкивать ночной термин. Эта трескучая музыка вывела Петра Ивановича из задумчивости. Он пересел из кресла на постель и медленно выговорил:
- Если, моей родине, Сильвио, грозит будущее... я первым иду навстречу! Да, я иду первым, Сильвио!
Глава четвертая
"...Бывают, Массимо, слова, которым нельзя внимать равнодушно. И вот их произнес могучий воин великой страны. Они вырвались у грозного полководца, который не погнушался поцелуем теплой благодарности почтить старого раба. Бог знает что со мной сделалось... Не помню и того, как это сделалось. Только я, свободный итальянец, схватил маленькую руку этого удивительного человека и крепко-крепко поцеловал ее. Кажется, я шептал в этот момент что-то очень банальное, вроде: "Скорее небо упадет на землю и река По потечет вверх, чем я..."
Но не то важно, что я шептал и шептал ли вообще что-нибудь, а то, что я поцеловал его руку и от этого почувствовал себя не хуже, а лучше, чем был до того... Надеюсь, что теперь тебе понятно, почему я не считаю унизительной свою лакейскую должность и не стремлюсь ни к какому другому более высокому положению в жизни. Если же и теперь ты этого не понял, вина не моя.
Никогда не случалось мне писать так много, - впрочем, дело заслуживает того. Не оскорбляйся моей откровенностью, Массимо. Знаешь ли ты своего героя так же хорошо, как узнал теперь моего? Истина... Где она скрывается, никому не известно. Да едва ли и нуждаются в ней люди, у которых есть убеждение. Так, я обращаюсь не столько к королевскому лейтенанту, сколько к маленькому кузнечному ученику, которого оставил двенадцать лет тому назад в Милане, у Верчельских ворот. Обращаюсь к нему и прошу не отвергать дружеского и братского объятия. Нежно обнимаю также тетушку Бобину. Я очень желал бы знать, продолжает ли она по-прежнему молиться обо мне ежедневно утром, вечером, после завтрака и после обеда святому Бонифацию Калабрийскому. Извините, мои милые, за каракули и сохраните в памяти и родственном расположении вашего
Энея Сильвио Батталья.
Село Симы, Владимирской губернии, 18 июня 1811 года".
Муратов и Олферьев молча смотрели друг на друга. Потом обнялись, также без слов, радостные и светлые. Не в итальянце, конечно, дело и не в его восторгах, а в том, что и вся Россия знает Багратиона таким, каков он в действительности, и другого, лучшего Багратиона ей не надо. Муратов бережно спрятал на груди письмо-подарок.
- Покамест сердце бьется, хранить буду здесь, Алеша!
Громкий голос главнокомандующего донесся из соседней горницы, и адъютанты кинулись на зов.
- Подать сюда старого мухобоя!
Городничий был из отставных кавалерийских майоров и в спокойное время любил заливать за воротник. Сейчас он стоял перед Багратионом бледный, как мука. Нижняя челюсть его очень приметно тряслась.
- Ваше сиятельство, - повторял он отчаянным голосом, - ваше сиятельство! Христом-богом... Как же это? Давай квартиры, строй печи для сухарей, давай дрова, давай подводы - все на свете-с. Ваше сиятельство! Вы городишко наш изволили видеть... Откуда же? Куда же мне? В реку броситься...
Багратион поднял руку и с такой неожиданной силой опустил ее вниз перед красненьким носом старика, что лицо городничего явственно ощутило дуновение свежего ветра.
- Знать ничего не хочу! Чтоб было! Не то повешу!
Олферьев с волнением следил за развитием этой сцены. Оба участника ее были правы, каждый по-своему. Князь Петр Иванович берег людей, но, сам неутомимый, бывал и к ним в нужде требователен до крайности. А городничий... Старый майор вдруг побагровел. Челюсть его перестала дрожать.
- Меня повесить? - рявкнул он. - За что-с? Аль не служил я кровью своему государю! Али сын мой, Смоленского полка, что в седьмом вашем корпусе, подпрапорщик Зиминский, не льстится надеждой за родину жизнь сложить под вашей командой? Меня повесить! Как-с?
Городничий сорвал с себя зеленый сюртук и, распахнув рубашку, плачущим от обиды голосом прокричал;
- Вот они, раны-с... Багратион хотел отвернуться.
- Нет, уж извольте взглянуть, ваше сиятельство!
Плечо старика было много лет назад разворочено осколком фугаса и до сих пор имело уродливый и жалкий вид. Через грудь шел багровый рубец от глубокого сабельного удара. На животе... Князь Петр Иванович подошел к ветерану и обнял его.
- Прости, душа! Я думал, что ты из крапивного семени{8}, а не наш брат. Прости же великодушно. А теперь без крика и шума скажу: не выполнишь расстреляю!
Несколько секунд городничий молча смотрел на него так, как был, - с голым плечом и обнаженной грудью. Потом аккуратно застегнул сюртук и, вытянувшись, отчеканил:
- Будет исполнено!
Глава пятая
- Садись, Алеша, и пиши, что говорить стану. Или... обожди малость. Ей-ей, не подьячий я, чтобы сочинять что ни день письма царю. Я - воин. В том мое дело, чтобы командовать. Не дают! А если бы отказался министр?{9} Завтра был бы я в Витебске. Отыскал бы там Витгенштейна с первым его корпусом. А потом распашным маршем двинулся бы, в приказе отдав: "Наступай! Поражай!" Вот моя система: кто раньше встал, тот и палку взял. Ой, сколь много важности в быстроте! Под расстрел готов, коли господина Наполеона в пух не расчешу! Но что делать! Не открыт государем мне общий операционный план. Министр знает, да от меня в секрете держит...