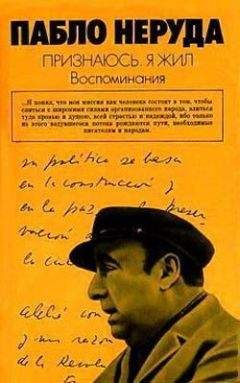В памяти Диего навсегда остались мельчайшие подробности этой поездки. Как ехали вдоль ущелья и по одну сторону дороги была пустота, от которой слегка поташнивало, а по другую, прижимаясь к откосу, теснились домишки из необожженного кирпича, до самых крыш увитые зеленью. Как выглядывали из зелени голубые раструбы вьюнка — любимого цветка рудокопов («любимого за то, — пояснил отец, — что в конце концов он всегда выбирается наверх»). И как на расспросы, почему же заколочены окна в этих домах, почему не слыхать голосов, ни даже лая собак, отец лишь вздыхал тяжело да переглядывался с управляющим.
С верхнего поворота открылся вид на Гуанахуато. Мальчика поразило, что одной ладошкой можно заслонить весь город с его соборами и площадями, с обоими прудами — Ла Олья и Сан-Реновато, с прямоугольником Алондиги де Гранадитас и остроконечной башней вокзала Марфиль. По противоположному склону лепились крохотные домишки. А дальше, насколько хватал глаз, вставали холмы, и горы, и новые горы, теснясь друг за другом. «Будто волны моря», — подумал вдруг Диегито. Море он уже видал на картинках.
Отсюда свернули в сторону по тропинке, зажатой меж каменных стен, полосатых, точно слоеный пирог на изломе. Колючий нопаль и сухой репейник протягивали лапы из расщелин, царапая сапоги всадников и бока лошадей. Тропинка шла то в гору, то под уклон. Наконец полосатые стены расступились, и впереди показалось несколько полуразрушенных строений, за ними — огороженный двор, заросший травой. Это и был «Персик» — последняя надежда семейства Ривера.
Двое рабочих вышли навстречу. Поздоровавшись с доном Диего, каждый из них осторожно подержал в своих жестких ладонях руку мальчика. А его вниманием уже целиком завладело странное сооружение под навесом среди двора. Отец объяснил, что это подъемник. «Да ну, какой там подъемник, — промолвил с досадой дон Тринидад, — обыкновенный ворот!» Подъемник, или ворот, пронизывала насквозь длинная жердь. К обоим концам жерди привязано было по ослику. Двигая эту жердь — один таща, а другой толкая, — ослики брели по черному кругу, протоптанному ими в траве.
Торопясь рассмотреть устройство диковинной машины, Диегито с разбегу наткнулся на ближнего к нему ослика. Тот, продолжая брести, повернул ушастую голову, поглядел на человечка, не достававшего ему до хребта. Что-то знакомое глянуло на мальчика из этих больших влажных глаз… но дон Диего, опередивший сына, нетерпеливо звал его: не на осликов же любоваться приехали они сюда!
Рядом с подъемником оказался колодец, широкий и бездонный. Поблескивающий канат выползал оттуда, наматываясь на барабан. Появилась клетка, до половины набитая камнями. Не дожидаясь, пока она остановится, отец с управляющим выхватывали камни, возбужденно переговаривались. Подоспевшие рабочие разгрузили клеть, и дон Тринидад первым шагнул в нее. Отец подал Диегито руку и подмигнул: не боишься?
С отцом он ничего не боялся! Он ступил на дощатый пол, пружинящий под ногами, услышал тягучий скрип порота, ощутил, как сладко заныло где-то внизу живота. Дневной свет померк, только лампы освещали теперь их лица. Высовывая руку с лампой наружу — и тогда становилось видно, что стена колодца как бы струится вверх, — управляющий произносил названия горных пород. Когда же снизу показывалась из стены черная дыра, стремительно разрасталась и, на миг опахнув их мраком и холодом, пропадала за потолком клети, отец с управляющим называли эту галерею по имени и вспоминали, кто и сколько добыл в ней серебра.
Мужчины заспорили о том, как же все-таки отвести воду из рудника, а мальчик, присмотревшись к полосам, проплывающим снизу вверх, подумал о таких же полосатых стенах по дороге на «Персик». Значит, и там, наверху, и здесь, внутри, земля устроена одинаково — наподобие слоеного пирога?
Отец подтвердил его догадку. Земной шар, сказал он, смахивает на луковицу: слой за слоем — и так до самой сердцевины.
Но тут Диегито припомнил другое свое дорожное наблюдение. Он не успел еще додумать до конца, как леденящий, никогда не испытанный ужас охватил его. Горы как волны… земля как море… Земля была подвижной, текучей; он уже чувствовал ее медленное, неотвра имое перемещение. В любое мгновенье она могла сомкнуться над головами людей, забравшихся в ее недра, и поглотить их, как мошек!
Превозмогая стыд, он шепотом поведал свои опасения дону Диего. Тот не стал разубеждать его. Да, сын опять догадался — земля когда-то и вправду была полужидкой кипящей массой. Потом она затвердела, остыла, но в глубине — гораздо глубже того места, куда они отпускаются, — остается расплавленной и поныне.
— Но там, где земля затвердела, она уж больше не шевелится?
И снова дон Диего не захотел успокоить сына.
— Да как сказать, — ответил он хладнокровно, — бывает, что расплавленная масса вспучивает изнутри земную кору. Тогда образуются трещины; горы раскалываются или сдвигаются. Случалось, и рудники заваливало…
Освещенное снизу лампой лицо отца было веселым грозным, клеть бесшумно неслась в бездну, а страх пропал, сменившись каким-то отчаянным восторгом. Земля действительно могла раздавить их в любую минуту, и се-таки они, трое мужчин, устремлялись навстречу опасности, и не было в мире силы, способной их удержать!
Уже дома, ночью, он привскочил в постели. Что синилось ему сейчас? Глаза — огромные, влажные, терпеливые… Да, он так и не вспомнил про ослика на обратом пути!.. Но тут же он снова забыл про ослика — разговор, доносившийся из гостиной, шел о нем, Диегито.
— Ну, и что же выйдет из этого ребенка? — с тоской говорила мать. — Он знает столько вещей, о которых не подозревают дети и более старшего возраста, а в то же время не знает азбуки, не прочитал еще ни одной строчки!
— Поверь мне, курносенькая, — возражал отец, — не так уж плохо, что своими сведениями о жизни он обязан прежде всего собственным глазам и ушам («Добавь еще: собственным рукам», — вставила мать язвительно)… да, и рукам! Было бы очень полезно, если бы и все другие дети начинали познавать жизнь на собственном опыте и лишь потом доверялись бы книжкам и руководствам. А что касается грамоты — не беспокойся. Диегито умеет уже рисовать почти все буквы алфавита; он выпучится складывать их, как только захочет!
— Все дети… — с нажимом повторила донья Ма рия. — Ты, значит, желал бы, чтобы все дети любили кормилиц больше, чем собственных матерей? Чтобы все дети оскорбляли своих матерей, когда те не захотят преждевременно посвящать их в тайны взрослых? Чтобы все дети по-приятельски, фамильярно держали себя с отцами? Отец молчал.