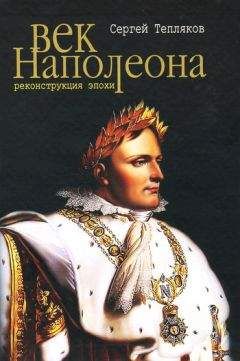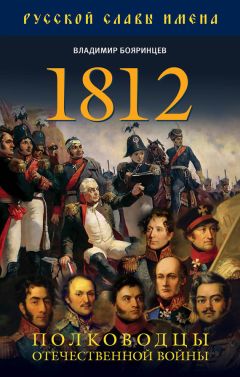Однако они не подгонялись, и к концу доказательства Толстой понял, что ничего не доказал – это отлично видно из второй части эпилога, где Толстой многословием пытается скрыть, что своего объяснения мира у него нет. (Впрочем, мало кто уличил Толстого в этом, так как еще Яков Лурье в своей книге «После Толстого» пишет: «вторую часть Эпилога, выходящую за рамки сюжета, читают немногие»).
Толстой пишет: «Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой – жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа. На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос – признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос – признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели. Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества. Новая история в теории своей отвергла оба эти положения. Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике».
Проще говоря: древние верили, что все по воле Божьей и что власть от Бога, а современники Толстого эти идеи на словах отвергли, но на деле остались им верны. Толстой в том и видел свою задачу: отыскать, кто же на деле управляет жизнью человеческой: «Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории».
При этом идею власти как движущей силы истории Толстой отрицает. Потом у него идет подряд несколько страниц размышлений, время от времени просто очень смешных, а иногда обескураживающих в желании Толстого видеть то, что ему хочется видеть, например: «Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его».
С мыслью о судьбе и предопределении, которые являются несомненными опорами идеи божественного промысла в истории человечества в целом и каждого человека в отдельности, Толстой борется так: «Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы».
Налицо явное желание хоть в чем-то уличить если не Бога, то хотя бы Учение, и при этом – налицо полное отсутствие аргументов по причине скорее всего полного незнакомства с предметом критики. Библия ведь дает немало поводов скептически настроенному уму.
Вот в 1901 году, написав после отлучения от церкви «Ответ Синоду», Толстой пишет о православии куда более конкретно, хотя и все с тем же настроением: открыть в общепризнанном СВОЮ истину. «То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении», – пишет Толстой. И дальше он начинает именно «ловить» Церковь на деталях: «Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдумано врагами Христа».
Кто мешал этим же попрекать Церковь еще при написании «Войны и мира», в той же 2-й части эпилога? Ответ скорее всего кроется в том, что «Война и мир» увидела свет в 1865–1868 годах, а первая полная Библия на русском языке был издана только в 1876 году и до этого Толстой Библию, похоже, просто не читал.
Отвергнув Бога и его учение, Толстой попытался придумать свое. В «Исповеди» он пишет: «Вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование». И тут же признает: «Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать». Почти сразу совершенствование завело Толстого не туда, куда он хотел бы попасть: «очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других». Надо полагать, Толстой отлично понимал, что желающих быть славнее, важнее и богаче других и без него пруд пруди, так что в этом он Америку не открыл.
Он вдруг понял, что если Бога нет, то жизнь человеческая не имеет смысла. «Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние…, – писал Толстой. – Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: «Зачем? Ну, а потом?»… (…) Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж?!..» И я ничего и ничего не мог ответить». Толстого охватывало «чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь…».