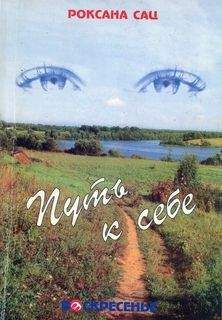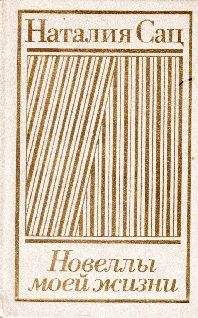Вдруг яркий луч прожектора вонзился мне прямо в лицо. Отстраняясь от него в темноту, я проследила за направлением луча и увидела, что он «поймал» необычайно низко летящего «Мессера» — была видна даже свастика на его крыльях. Со всех сторон к «Мессеру» побежали другие лучи, скрестились, образуя на небе все уярчающееся световое пятно, в центре которого барахтался, стремясь во что бы то ни стало вырваться из светового плена «Мессер», а зенитки заухали еще громче, и вокруг самолета, прошивая небо, засветились дорожки трассирующих пуль.
— Заюлила фашистская гадина! — услышала я над ухом чей-то торжествующий голос, но тут самолет сделал еще один резкий рывок и внезапно «выплюнул» из себя какой-то предмет.
— Фугаска! — произнес тот же голос. — Держись, ребята!
Судорожно вцепившись в чердачный выступ, я изо всех сил вжималась в него, слушая, как свист летящей фугаски переходит в визг, затем в оглушительный грохот. Распластанная на крыше, я почувствовала, как дрогнул, задышал подо мной весь многоэтажный дом, затем вновь обрел устойчивость, — и наступила тишина, только доотзванивались осколки разом лопнувших стекол. Это была печально знаменитая фугаска, угодившая в Вахтанговский театр и разрушившая его почти до основания.
Едва очухавшись, я побежала вниз узнавать, что с бабушкой. Бомбоубежище игнорировали многие, в том числе и бабушка, потому я первым делом помчалась домой.
Еще не входя в комнату, поняла, что бабушки дома нет — на вешалке не висело ее пальто, и повернулась, было, бежать в убежище, как вдруг услышала какое-то шипение и отчетливое:
— Тревога… Тревога…
«Странно, — подумала, — голос какой-то не дикторский», — и заглянула в комнату. На полу своей клетки сидел Лорка и, раскачиваясь, как заведенный, объявлял воздушную тревогу. «Заговорил!» — поразилась я, но в это время близко снова ухнуло, и я опрометью бросилась в бомбоубежище.
По лестнице бежали дружинники, кто-то пустил слух, что подвал завалило. По счастию, этого не случилось, но от взрывной волны что-то произошло с проводкой, погас свет, началась паника. Пока страсти улеглись и мы с бабушкой вернулись домой, прошло уже много времени. Светало. Налет кончился. Было тихо, мирно, шли не спеша.
Уже поднялись на наш четвертый этаж, как вдруг увидели зеленое Лоркино перышко, затем другое, третье… Дверь в квартиру была открыта, наверное, впопыхах я ее не захлопнула, и порыв ветра выдул навстречу целую горсть легких перьев.
Вбежали в дом. В квартире не осталось ни одного целого стекла, ветер хозяйничал, как хотел, было очень холодно. Дверца Лоркиной клетки была открыта, очевидно, распахнулась от удара взрывной волны, а сама клетка пуста. Из кухни доносилось злобное урчанье. Там на полу голодный кот Васька приканчивал то, что еще оставалось от Лорки. Бабушка прогнала кота, щеткой собрала перья в совок. Одно из них зелено-синее с красным и желтым осталось на подоконнике. Когда-то в прежние добрые дни я собирала Лоркины перышки, а иногда обменивала их на что-нибудь во дворе. Разноцветные ценились особенно: на такое можно было получить стеклянный шарик для игры в лунку или перочинный ножичек.
Вернулась из кухни бабушка, спросила:
— Может, все-таки поедешь?
Бабушка уговаривала меня эвакуироваться вместе со школой в Саратов, где специально открывался интернат. До сих пор я все колебалась: ехать — не ехать, но теперь решилась: «Поеду».
Ветер подхватил разноцветное Лоркино перышко и выпорхнул с ним за окно.
Известно, что достопримечательности города реже всего посещаются его собственными жителями. Москвичи не исключение. Возможность посетить Третьяковку в любой день — не сейчас, так потом — оказывается иногда большим препятствием, чем любые расстояния. Сколько раз я «угрызалась», сколько раз давала себе слово завтра же заполнить этот возмутительный пробел в своем культурном развитии, но завтра сменяло послезавтра, шли дни и месяцы, а мы с Третьяковкой, как две параллельные прямые, никак не пересекались. Но в день эвакуации почувствовала: без этого не могу уехать из Москвы, и с утра помчалась в знаменитый Лаврушинский переулок.
Против ожидания у кассы стояла очередь. Гимнастерки соседствовали с ватниками ополченцев, с самой разной, но серой и зябкой осенней одеждой, ярких красок тут не было совсем. Зато сколько их было в самой Третьяковке!
Едва перешагнув порог, сразу помчалась к передвижникам, о которых так много рассказывал Адька, обладатель большого количества открыток-репродукций. Первый зал, куда влетела, был Левитановский. Он же стал и последним. Я так и не смогла оторваться от этих омутов, золотых берез, сочной зелени и нежной голубизны. «Все-таки в действительности так не бывает, все-таки он приукрашивает», — подумала я, со вздохом бросая прощальный взгляд на «Золотую осень».
Времени оставалось в обрез. Забежав домой за вещами, сразу отправилась на Речной вокзал.
Возле причала покачивался теплоход. На его белоснежном борту золотыми буквами сияло «Левитан». И это поразившее меня название, многократно повторяющееся на шлюпках и спасательных кругах, и сам теплоход — нарядный, щеголеватый, откровенно прогулочный, никак не вязались с войной и эвакуацией. К тому же день распогодился: выглянуло солнышко, рассиялось, заиграло веселыми зайчиками по водной ряби, заскользило по лицам провожающих. Но при ярком солнечном свете стало заметней, как постарела бабушка. В потертой «с залысинами» обезьяньей жакетке, когда-то модной, теперь нелепой, в съехавшей набок еще более нелепой бывшей маминой красной шляпке, из-под которой косматились седые волосы, она стояла чуть в стороне от общей толпы и неотрывно смотрела на меня. А я то всматривалась в ее осунувшееся лицо, в любимые мудрые глаза, то отвлекалась на толпу, солнце, теплоход, на котором никогда прежде не плавала. То и дело к нам подбегали ребята, носившиеся с пристани на теплоход, и рассказывали, как чудесно там все устроено, и все остальное как-то затушевывалось перед великолепием предстоящего путешествия. Невольно приходили в голову наивные, но утешительные мысли, что «наши немцев заманивают, потому и отступают, а потом, как дадут», что пройдет месяц-два, и все снова будет хорошо… — да мало ли какими иллюзиями тешит нас воображение, когда не хочет радовать жизнь.
Наконец, все погрузились, загудел прощальный гудок, и полоса воды между теплоходом и берегом стала все расширяться, отрезая уезжающих от остающихся, унося меня куда-то в неведомое. Последнее, что увидела — бабушкину спину на зеленом косогоре. Как медленно, как трудно взбирается бабушка наверх. Теплоход уже доплыл до излучины, а она все никак не достигнет гребня косогора. Наконец, она скрылась за ним, и в эту минуту я совершенно ясно поняла, что больше не увижу ее никогда.