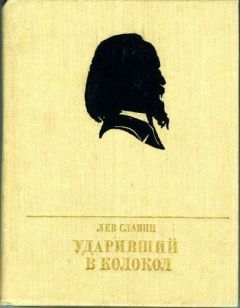Имя Пушкина часто поминалось за столом. Все Раевские — его друзья. Николаю он посвятил «Андрэ Шенье» и «Кавказского пленника». Послания к Чаадаеву всем известны. Герцен мысленно повторял: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Совсем неробкий по природе (скорее напротив), Герцен сейчас робел Чаадаева, рассердился на себя за это и заставил себя обратиться к Чаадаеву со смелым вопросом:
— Не собираетесь ли вы публиковать что-нибудь?
Чаадаев, нисколько не изменяя скульптурной застылости лица, ответил отнюдь не надменно, попросту — бесстрастно:
— Я ничего не печатаю.
После небольшой паузы:
— Хотя много пишу.
Только Герцен, пустившийся во все тяжкие, собирался спросить, что, собственно, пишет Чаадаев, как тот сказал:
— Впрочем, в «Телескопе» я поместил рассуждение об архитектуре.
Он прибавил, слегка вздохнув:
— Но тому уже два года…
— Как же я не заметил! — воскликнул Раевский.
— Я его не подписал…
Орлов поднялся во весь свой огромный рост и собственноручно зажег свечи в большой люстре над столом. В этом доме предпочитали обходиться без слуг в иные моменты, в частности когда здесь бывали Чаадаев и Раевский, — поменьше посторонних ушей. Свет зазмеился по голому цилиндрическому черепу Чаадаева и столь же голому куполу шарообразной головы Орлова, лишь на висках опушенной черными с проседью кудрями.
— В каком же жанре то, что вы пишете сейчас? — не угомонялся Герцен.
Екатерина Николаевна посмотрела на него с некоторым упреком.
Но Чаадаев ответил просто:
— По-прежнему в эпистолярном. И помолчав немного, продолжал:
— Вообразите молодую женщину, которая вдруг почувствовала пустоту своей жизни. И вот под влиянием автора обращенного к ней письма она начинает искать более осмысленное существование.
Внезапно он прервал себя:
— Я не вижу причины скрывать в данном обществе, кто это. Вы, может быть, знаете писателя Александра Дмитриевича Улыбышева, пишущего преимущественно о музыке? Это его сестра, Панова, моя соседка по имению. Цель моя — вырвать ее из рабской атмосферы крепостничества. Но в письмах к ней я не удерживался в пределах только этих советов, а доводил их до уровня своего рода сочинения о России и о ее роли в мировом историческом процессе. Вероятно, Карамзин остался бы недоволен моим взглядом на Россию. Почему? Да потому, что полвека назад были найдены летописи. Опираясь на них, Карамзин возвышенным стилем описал подвиги русских государей. А вслед за ним бездарные писатели, невежественные ученые и неудачливые поэты, не обладающие эрудицией немцев и пером Карамзина, с большим апломбом искаженно воспроизводят эпохи и нравы, забытые давно и справедливо. Как же можно из этих ничтожных усилий извлечь серьезное предвидение судьбы, ожидающей Россию?
— А вы-то сами в чем ее видите? — спросил Герцен голосом, срывающимся от волнения, так потрясли его слова Чаадаева.
— В отрыве от растленной Византии, — ответил Чаадаев своим мягким и непреложным голосом, — и в приобщении к великим духовным движениям Запада. Обо всем этом трудно говорить в случайной беседе за столом.
Он повернулся к Орлову:
Ведь я и тебе писал письмо, Михаил Федорович, где я излагал свои мечты о великих идеалах России и человечества. Ответа не ждал, да и не жду, хотя твоя речь в Киевском отделении библейского общества о пользе образования до сих пор памятна. Вяземский сказал, что у тебя перо, очинённое шпагой. Сейчас же скажу тебе только, что России будет дарована милость последних и чудесных вдохновений.
Слова эти при всей их недоговоренности волновали Герцена. Его чаровал этот оригинальный полет мысли. В то же время у него возникали вопросы, хотелось кой-чему возражать, развивать свои соображения.
Нет, он не робел. Другое. Он сидел как на иголках. Мысль об Огареве не давала ему покоя. А время идет. Улучив минуту, он шепнул Орлову, что хотел бы с ним поговорить.
— А впрочем, — тут же сказал он громко, — в этом нет никакой тайны: Огарев арестован. Без всякой видимой причины!
— Что вы хотите, — сказал Чаадаев, усмехнувшись, — наше внутреннее правление — это система злодеев, соединенных тесно.
Орлов, конечно, откликнулся немедленно и написал письмо генерал-губернатору. Ответ последовал на другой день. Огарев замешан в «деле о возмутительных песнях, петых в злоумышленней компания». Герцен недоумевал.
А июльской ночью около двух часов его арестовали.
Дело дошло до царя. Он нарядил следственную комиссию.
Дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» разворачивалось в закрытый политический процесс.
Герцена посадили в маленькую сводчатую камеру. Он забирался с ногами в глубокую нишу у зарешеченного окна — к свету — и читал Данте, томик которого захватил с собой.
В следственной комиссии было два князя Голицына, разных, может быть даже противоположных, — один попечитель Московского учебного округа, незамысловатый старичок, sancta simplieitas[5], другой — Александр Федорович, тонкая петербургская штучка, из III отделения, первая скрипка следствия. В членах комиссии — московский комендант Стааль, прямодушный рубака, которому все это следствие претило, он и не стал посещать его заседаний, жандармский полковник Шубинский, личность безмолвная, и аудитор Оранский, исполнявший секретарские обязанности, ханжа в очках, нестарый, но лицо, словно траченное молью, все в выбоинах и вмятинах.
Герцен долго и с интересом вглядывался в это лицо, изъеденное низменными страстями. Оно ему чем-то напоминало кончик плохо очинённого карандаша, какое-то утлое, колючее и даже словно бы расщепленное. Герцен решил: «Тартюф!»
Был еще и третий Голицын — Дмитрий Васильевич — московский генерал-губернатор. Он не был в составе следственной комиссии, но по должности ознакомился с материалами следствия, в частности с письмами Герцена и Огарева. И написал отзыв с некоторым пренебрежением к правилам правописания, но не лишенный здравой мысли:
«Только сия переписка есть сообщение один другому своихъ мыслей на щетъ ихъ чтение и предметы ихъ учение. Тогда также обнаруживаются ихъ образъ мыслей который согласен съ духомъ времени и не может ихъ въ оном обвинить».
Не очень грамотно, но благоприятно для обвиняемых — вероятно, именно поэтому мнение третьего Голицына было отвергнуто двумя первыми.
Конечно, ни Герцен, ни Огарев, ни еще два привлеченных студента, чьи имена были найдены при обыске, Лахтин и Сатин, не имели никакого отношения к «Делу о песнях». Но они были взяты, выражаясь иезуитски-канцелярским языком аудитора Оранского, «как лица, обращающие на себя внимание образом мыслей своих».