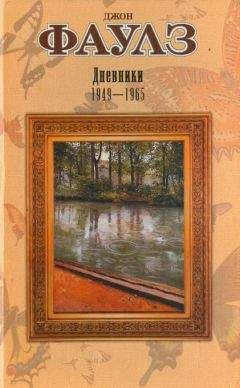Вся радость — в самом сочинительстве. Это правда, но чувство, часто переживаемое мною в последнее время, — якобы все написанное моей рукой должно иметь значение и ценность только потому, что это написал я, — ложь, порожденная все той же истиной. Я поверил, что «Коллекционер» — хороший роман: ведь все это говорили. Теперь мне не так важно, хорошей или плохой называют мою книгу; «Волхв» существует, и уже в этом его оправдание. Раньше я просто писал, теперь у меня есть на это право. Можно с полным основанием считать такой взгляд свидетельством атеросклеротического синдрома; но растение нельзя отделять от почвы, в которой оно произрастает. То, что можно принять за самомнение, — всего лишь принятие судьбы, сознание своей неповторимости.
17 мая
Дэн и Хейзел с сынишкой Джонатаном. Хейзел с ребенком гостили неделю.
Мальчуган прелестный, абсолютно нормальный маленький человечек с серо-голубыми глазками и ненасытной страстью к новым предметам. Мне кажется, особое очарование девятимесячного младенца не столько в его невинности — хотя, конечно, он еще не сумел нагрешить, как бы он сам смог? — сколько в его нормальности, таящей потенциальные возможности; он чистая страница, пустой холст, он может стать кем угодно.
28 мая — 1 июня
Элиз в Лондоне; я предоставлен самому себе, живу в своих владениях; погода необычно хороша для Англии — на небе ни облачка, зацветают розы. Я много брожу, бездельничаю, но на самом деле не в восторге от прекрасной погоды. Люблю отдельные хорошие денечки, но долгие лучезарные периоды вгоняют в депрессию, посещавшую меня и на Эгейском море, да и сад жаждет дождя. Одиночество — сродни жене. В наше время с моим поляризованным сознанием невозможно счастливо жить в одиночестве. Это плохо на мне сказывается: ничто не обуздывает мое воображение, оно растекается, не сосредоточиваясь в работе над «Разнузданными»[21].
И молчание вокруг «Волхва». Ни одного письма от английских читателей — ни одобрения, ни отрицания… А ведь книга уже месяц в списке бестселлеров. Мертв не английский роман, а английский читатель.
30 июня
Колин Уилсон. На днях он прислал мне длинное письмо, где в основном писал о «Волхве» и между делом проговорился, как ему приятно, что у него наконец-то появился последователь, который не боится возделывать целину[22]. Теперь мы постоянно обмениваемся письмами и книгами. Я чувствую к нему симпатию, мне нравится его поразительная серьезность, неодолимая потребность печататься (четырнадцать книг за последние десять лет) и настойчивая попытка создать оптимистичный экзистенциализм. Однако он удручающе тщеславен и не пытается это скрыть. «Через пятнадцать лет меня будут считать самым выдающимся европейским мыслителем». И делится славой: «только мы двое выдающиеся писатели в этой стране». Это тщеславие — защитный механизм, позаимствованный у его любимых Шоу и Уэллса (и, возможно, Ницше), — я еще могу переварить, но он также демонстрирует пугающие свойства настоящего каннибала. Писателей, которых не любит (почти всех французов), он уничтожает одной фразой — и вас заодно, если вы воздаете им должное. Согласно воззрениям каннибалов, если вы пожираете своих врагов, их духи не станут вас преследовать; и он поступает так со всеми писателями, о которых не перестает думать, хоть их и ненавидит. В конце концов, мне придется поставить его в известность, что я не стану его обедом. Но я не тороплю события. Опасно быть невежливым с каннибалом…
25 июля
Лето здесь берет тебя в плен, оно быстро пролетает, а столько надо сделать в саду, в полях; столько предлогов не писать, не думать. Мне следовало бы отказаться от создания двойного портрета — Ванессы Редгрейв и новой сексуальной богини Ракель Уэлч, но это предложение стало искушением вновь выбраться в большой мир. Впрочем, не могу сказать, что мне хочется так уж много знать о внешнем мире. Здесь мы ведем уединенное, независимое, самодостаточное существование. Никого не видим; светит солнце, сверкает море, птицы и насекомые плетут рядом с нами свой летний мир. Он прекрасен — словно находишься в хрустальной сфере, где диаметр — морской горизонт, протянувшийся на семьдесят-восемьдесят миль. Чувство обособленности невелико; но все же чувствуется.
Журнал, заказавший эту статью, сам по себе уже оскорбление человечества — это небезызвестный «Космополитен». Утром получил от них письмо: им нужен взгляд «зрелого мужчины на обеих девушек». Под «зрелым» понимай «сексуально озабоченного».
8 августа
Неожиданно наше прошлое напомнило о себе самым неприятным образом, что можно было предвидеть. Во-первых, Рой согласился оставить Анну с нами на все летние каникулы. Тут и стало известно, что он пишет книгу. Потом он спросил, не согласимся ли мы ее прочесть, и тогда мы поехали в Фулем, чтобы забрать Анну и рукопись. Нам предложили выпить, отобедать, были очень любезны; Рой, как бы между прочим, дал понять, насколько ему важно напечатать эту книгу. «Хайнеманн» проявил интерес, получено одобрение юриста (опять Рубинштейн). Мы проявили искреннее участие, что было — прошло, и никто из нас не собирается вставлять палки в колеса начинающему писателю…
На обратном пути я сидел на заднем сиденье и читал рукопись. Это что-то вроде акта возмездия — бездарно написанное, полное черной ненависти, отмщения и зависти сочинение. Имевшие место события переиначены; впрочем, он чувствовал, что отъявленные злодеи из нас не получаются, и тогда свалил на нас недостатки других людей. Не гнев вызвала у меня его книга, а отвращение. Роя нужно остановить. Такое мог написать, а тем более хотеть напечатать, только человек не в своем уме. Принялся за старые фокусы: ставит людей в заведомо ложное положение, а затем проклинает за то, что те не выполнили его просьбу. Неудивительно, что раньше он так любил Иегову из Ветхого Завета. Требуй невозможного, а затем наказывай неудачника.
В то же время мне его жаль. Две сцены он просто выдумал: в одной он дает мне хорошую взбучку, а в другой — она в конце книги — к нему якобы чуть ли не на коленях приползает Элизабет, но он ее решительно отвергает. Не сомневаюсь, что он по-прежнему ее любит, ассоциируя со Сладостным Грехом, а Джуди — с Повседневным Долгом, и потому не может изгнать из своего сердца. Если б он действительно считал ее такой плохой, какой выводит в книге, то вряд ли нанес бы мне тот вымышленный удар в челюсть — скорее, пожал бы руку и поблагодарил за то, что я ее увел. В нем прочно угнездилась уродливая сцена расставания.
Написал ему длинное письмо. Теперь ждем, когда запруда прорвется.