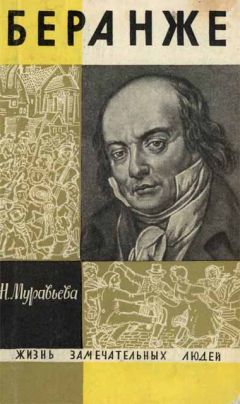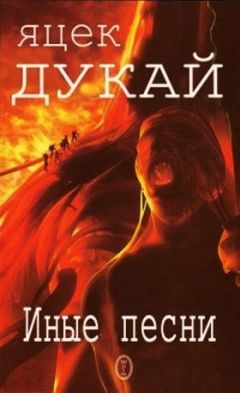Местный клуб продолжал свою шумную жизнь. Но теперь там уже не читали приветствий Робеспьеру. Робеспьер, перед которым совсем недавно благоговели, был неожиданно казнен. После государственного переворота 9 термидора (27 июля 1794 года) уже не якобинцы, а совсем другие люди встали во главе республики. Богачи и дворяне снова подняли головы.
В Перонне стали появляться фигуры, давно исчезнувшие с горизонта. Прислал письмо и отец Пьера Жана, о котором так долго ничего не было слышно.
Беранже де Мерси, оказывается, сидел в тюрьме за участие в одном из монархических заговоров. Тетка знала об этом и раньше, но скрывала от Пьера Жана, чтоб не огорчать и не тревожить его.
После 9 термидора Беранже де Мерси выпустили на свободу, и в начале 1795 года он собрался навестить родных в Перонне.
Тетушка Мари Виктуар звала брата приехать на ее свадьбу. Да, ей надоело быть одинокой вдовой, она решила связать свою судьбу с неким гражданином Буве, имевшим в Перонне репутацию человека образованного и высоконравственного. Пьер Жан, с которым тетка не преминула посоветоваться, прежде чем сделать такой рискованный шаг, предостерегал ее. Он заметил, что жених обладает своеобразным и, наверно, нелегким для окружающих нравом. Уж слишком горазд допекать ближних поучениями и назиданиями (Пьер Жан почувствовал это на себе). Тетка потом жалела, что не послушалась совета своего питомца. Брак не принес ей счастья. Но свадьбу справляли весело. Беранже де Мерси привез в подарок сестре новые башмаки из настоящей кожи! Это была роскошь для тех лет: большинство граждан Перонны ходило в деревянных сабо.
Чуть ли не в первый день по приезде брата Мари Виктуар повела его в клуб, где выступал с патриотической речью Пьер Жан. Красноречие сына польстило самолюбию де Мерси, но содержание речи пришлось ему не по душе. Он решил выбить из головы Пьера Жана «санкюлотские бредни».
Но как ни подступался он к сыну, как ни петушился, доказывая ему преимущества дворян перед плебеями, превосходство монархии над республикой, сын упорно оставался на стороне плебеев и республики и, что было обиднее всего, побеждал в спорах отца.
Разбитый наголову, раздосадованный отец пожимал плечами, искоса поглядывая на своего непобедимого противника. Ишь ты, на вид смирен, тщедушен, и откуда только такая прыть? Смышленый мальчишка! Может стать помощником в делах, надо будет взять его в Париж, а там уж заодно и перевоспитать.
До поры до времени отец ничего не говорил об этом юному Беранже, но спорить с ним перестал, обратив свой полемический пыл на сестру. Споры с ней он затевал обычно в присутствии сына. Один из образчиков их диалога Беранже приведет потом в своей «Автобиографии».
«— Сестра, — сказал он ей, — этот ребенок заражен якобинством.
— Лучше скажи, брат, вскормлен республиканскими взглядами…
— Якобинец или республиканец — это для меня одно и то же. Мальчишке привиты самые вредные взгляды.
— Они принадлежат мне и всем лучшим гражданам…
— Сестра, мы, аристократы, должны стоять за трон и алтарь. Служа им, я больше года таскался по тюрьмам и, не будь особой милости божией, умер бы на эшафоте.
— Скажи лучше, что тщеславие заставило тебя присоединиться к людям, нисколько тобой не дорожившим…
— Боже мой! Неужели ты ничего не хочешь понять? Вашей республике осталось жить каких-нибудь полгода. Я уже говорил тебе, что наши законные государи скоро вернутся к нам… Когда Бурбоны возвратятся, я надеюсь пристроить сына в число пажей его величества.
— Право, Беранже, ты сумасшедший! Если, по несчастью, к нам возвратится эта династия, вооружившая всю Европу против Франции, неужели ты полагаешь, что последний из ее членов удостоит тебя малейшего внимания?
— Конечно, да. Я докажу свои права на дворянство.
— Опять эта чушь! Не забывай, что ты родился в простом кабаке. Наша добрая мать была служанкой, что вовсе не мешало ей обладать здравым смыслом. Эта достойная женщина, правда, соглашалась иногда шутки ради, что в жилах твоих и твоего отца течет дворянская кровь. «Ведь мой муж, — говаривала она, — бездельничал всю жизнь и напивался пьян вином из своего кабака, как добрый деревенский помещик. А сын мой не может жить без долгов, словно аристократ».
— Сестра, все эти твои россказни не помешают моему сыну, который после меня станет главой рода, сделаться пажом ее величества.
— Твой сын никогда не захочет стать лакеем…
— Сестра, клянусь тебе, что, когда Бурбоны возвратятся, я представлю своего сына нашим превосходнейшим принцам.
— Берегись, чтоб он не спел им «Марсельезу»!»
Прощай, Перонна! Прощайте, речи в клубе, и прогулки с друзьями, и фартук типографского подмастерья! Пьер Жан уезжает, отец вызвал его в Париж. Тетушка утирает покрасневшие глаза, напутствуя свого воспитанника. Пьер Жан тоже не может удержаться от слез.
И вот уже звенит колокольчик почтового дилижанса. Дальше, дальше! Чужие постоялые дворы, чужие лица. Ночь сменяется новым днем. Машут крыльями мельницы, приветствуя путешественников, мычат стада, несутся клубы пыли… Часть его существа как будто еще там, в Перонне, но с каждым оборотом колес Париж все ближе, все сильнее притягивает его мысли и пробуждает воспоминания.
Запах пыли в мастерской деда. Крики разносчиков на пестрой улице Монторгей, темные классы в тупике Бутылки, хохот забияк в пансионе. И самое памятное — высокая крыша, а внизу толпы народа: «Вперед! К Бастилии!» Он тогда еще ничего толком не понимал, но теперь-то он знает — в тот день все и началось. А потом из Парижа неслись зажигательные песни, и речи, и вести. Там санкюлоты штурмовали королевский дворец Тюильри. Там заседал Конвент. Оттуда с трибуны Якобинского клуба звучали голоса гигантов.
Париж! Здравствуй, Париж!
Они поселились в предместье Пуассоньер. Всей семьей — отец, мать, Пьер Жан и бабушка Шампи (только сестра Софи осталась где-то в деревне). С матерью Пьер Жан почти не знаком.
А бабушка Шампи все такая же хлопотливая, добрая; только стала как будто поменьше ростом, и голова трясется, и глаза плохо видят. «Господина де Вольтера» бабушка теперь уже не так часто вспоминает. Пьер Жан тоже охладел к Вольтеру с тех пор, как прочел его «Орлеанскую девственницу». («И как мог Вольтер насмехаться над Жанной д’Арк, национальной героиней Франции, перед которой преклоняются все патриоты!» — возмущался юный Беранже.)
В Париже шумно и с первого взгляда весело. Но если всмотреться пристальней, то можно заметить, что лица у людей, особенно в предместьях, сумрачные, истощенные. Около хлебных лавок с вечера выстраиваются длинные очереди. Каждый боится, как бы не упустить свою дневную порцию — полуфунтовый ломтик хлеба. Дети умирают от голода. Нищие дежурят на каждом углу.