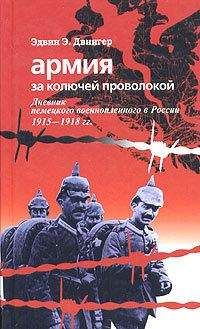Что же, это все-таки лучше, нежели в кладбищенских бараках в Николаевске, где я был прежде. Там выжило всего 70 человек из 1000… Мертвых русские часовые утрамбовывали в ящиках прикладами и сапогами. Когда ящиков больше не стало, они отрыли траншею для массовых захоронений, отвозили голые трупы к ее краю на той же повозке, на которой возили мясо для нашей кухни, и дюжинами опрокидывали туда. Эти ямы оставляли открытыми, пока не заполнялись до краев. Верхних наполовину пожирали волки, пока их не покрывали новые трупы…
Вчера ночью, когда все уже спали, лейтенант Турн присел ко мне на кровать. Я отложил свой дневник в сторону и удивленно посмотрел на него.
Его милое южное лицо, казалось, было возбуждено, темные миндалевидные глаза, белки которых, как у детей, отдавали голубизной, блестели. «Что с ним?» – с участием подумал я.
– У вас такая чистая кожа… – вдруг произнес он.
Боже мой, этого еще не хватало! Я натянуто улыбаюсь:
– Вы находите?
Он пододвигается ближе. Я чувствую его руку на моем бедре.
– Вы очень милы! – продолжает он. – Я часто мечтаю о вас… У вас бледные, тонкие губы… И когда вы улыбаетесь, обнажаются ваши зубы…
– Я – мужчина, господин лейтенант! – перебиваю я его.
Он поднимает руку, словно говоря жестом: «Какое это имеет значение?» И вновь возвращает руку мне на бедро.
– Именно поэтому… – шепчет он.
Я беру его руку и кладу на край койки.
– Господин лейтенант, – решительно говорю я, – идите к себе в постель! Пора. Я хочу спать.
– Но почему? – мягко спрашивает он, дрожь сотрясает его тело. В глазах вспыхивает страх. – Позвольте мне еще посидеть на вашей постели… Это так приятно… Я с таким наслаждением смотрю на вас! Вот, я принес вам сигарет…
– Спасибо, господин лейтенант…
– Зачем вы все время говорите «господин лейтенант»? – перебивает он меня. – Меня зовут Вилльмут. Говорите просто: Вилльмут.
– …спасибо, господин лейтенант, – заканчиваю я свою фразу, – у меня есть свои сигареты!
Он вспыхивает, губы его сжимаются. Он что-то бормочет.
– Что вы хотите? – резко спрашиваю я.
Он склоняется надо мной, кладет руки мне на плечи.
– Я люблю тебя, мальчик… – выдавливает он.
Я вскакиваю, словно меня укололи, и отбрасываю его руки.
– Если вы сейчас же не уйдете, я позову доктора Бергера! – бесцеремонно восклицаю я.
– Но почему?
– Сейчас же, слышите?!
Он расслабленно поднимается. Уж не слезы ли в его глазах?
– Будьте добры… – умоляет он.
– Идите, идите! – громко восклицаю я. Может, я вдруг почувствовал опасность для себя? Я вдруг сильно возбуждаюсь. – Мне противно, понимаете? И если вы еще раз придете…
Он бросает на меня взгляд, который пронизывает меня. «Как больной зверь!» – с отвращением думаю я. Наконец он уходит – ползет с кровати, словно побитый пес.
Полночи я не мог уснуть. «Что еще ждать?» – думал я. Наконец достал последнюю из того подаяния, из тех сигарет, которые берег для особых случаев, – «Ферма», Петроград, первый сорт. Мундштук все еще хранит легкий аромат женщины…
Я рассказал Зейдлицу о Вереникине и его предложении.
– Он не оставит меня в покое, – говорю я. – Не знаю, с чего он помешался на мне.
– Потому что вы немного говорите по-русски, думаю.
– Конечно, но все-таки…
– А почему, собственно, вы отказываетесь? – спрашивает он.
– Потому что я больше не солдат, Зейдлиц. Быть солдатом – это быть таким, как вы или Шнарренберг. Нет, больше я не в состоянии стрелять и убивать. Только по нужде… И за нашу родину… А здесь братоубийственная война…
Он некоторое время молчит и вдруг спрашивает:
– А взял бы он меня?
– Вас? – пораженно восклицаю я. – Вы хотите перейти, Зейдлиц?
– Да. Я офицер. Вот и все. Мой отец и дед были офицерами. Это моя сущность, мой характер. Для Германии начинается новое время – или-или – в этом нет никаких сомнений. Но я не могу перестроиться. Я знаю только войну, ничего иного. На ней я стал мужчиной, на ней и останусь. Впрочем, белые воюют за мои идеалы: предводители и традиции. Вероятно, можно было бы точно так же податься к красным, ибо они тоже утверждают, будто борются за идеалы. И возможно, они не плохи, эти новые идеалы, во всяком случае, более в духе времени, нежели наши старые. Но они недисциплинированные орды, не желающие никаких предводителей, как я вижу. Но я все же происхожу из буржуазии. Так почему я должен загадить свое гнездо, борясь против него?.. – Некоторое время он размышляет. – Колчак – честнейший человек России, слышал я. Человек с чистыми руками. А честность в этой стране, возможно, важнейшее качество. Чего мне больше желать? Но прежде всего я должен вырваться отсюда, понимаете? Только вырваться, что-то делать, где-то что-то делать… Иначе я тоже сойду с ума…
– А если вы погибнете? – подавленно спрашиваю я.
– Тогда я до того, по крайней мере, хотя бы куплю немного свободы! – бодро говорит он. – А уверены ли вы, что останетесь в живых? Прихватит нас тут однажды тиф или чахотка или, – он глубоко вздыхает, – что-нибудь в таком же роде ужасное… Потому что могут пройти годы, пока мы вернемся домой…
– Я предложу Вереникину, Зейдлиц.
– Вы верите, что он…
– Разумеется. У них на счету каждый человек. Впрочем, Семенов наверняка знает фамилию ваших великих предков…
Я стоял в одиночестве в затишке на углу казармы, когда лейтенант Кёлер нерешительно подошел ко мне.
– Господин фенрих, – сказал он робко, и его глаза боязливо забегали по сторонам, – я все тщетно ищу свою жену… и хотел бы вас всего лишь попросить, видите ли, искренне попросить: если она снова будет в вашей комнате… и позовет меня… а я сразу не приду – тогда крепко возьмите ее… и не отпускайте… заприте ее и охраняйте… – Он замолкает и нежно улыбается. И склоняется к моему уху, словно должен сообщить мне священную тайну: – Пока я не приду!
И убегает торопливыми, семеняще-детскими шагами…
«Как этот человек должен страдать!» – думаю я. День за днем, час за часом с заоблачных высот он низвергается в бездонную бездну. Он долго так не протянет, он уже совершенно измотан и истощен… Да, мы дошли до того, что, чтобы вынести невыносимое, мы уже утешаем себя тем, что вот тот или этот измученный бедняга вскоре умрет…
Некоторые снова говорят, будто бы при белых нам в лагере лучше, нежели когда-то было при красных. Из военнопленных в результате пропаганды большевиков сформировалась партия так называемых «интернационалистов», германские, австрийские и венгерские коммунисты, которые всех товарищей, не желавших переходить на их сторону, невероятно терроризируют. От большевиков за то, что переметнулись, они получили власть в лагере и с особенной сладострастностью мучили офицеров.