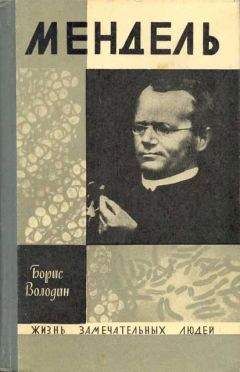Для меня не явилось неожиданностью, что Вы, Ваше Благородие, будете говорить о моих опытах с осторожным недоверием; в подобном случае я поступил бы не иначе…»
«В подобном случае я поступил бы не иначе» — дипломатический ход. Ведь перед этим он говорит, что не обнаружил никаких признаков ошибки. «Я поступил бы не иначе» — значит — «…я не поверил бы словам и проверил бы все повторным опытом, как проверил в своем палисадничке, действительно ли пшеницам из других краев и дикорастущим цветочкам можно продиктовать, как им следует приспособиться к климату Брюнна. И честно сказал, что поведал мне эксперимент… Проверьте и Вы, скажите и Вы. Я уверен, что Вы убедитесь в справедливости моих выводов».
Что знал Мендель о своем далеком высокочтимом корреспонденте?…
Может быть, он представлял себе по портретам облик Карла Вильгельма Нэгели, право же, весьма приятный.
Быть может, он знал, что Нэгели был учеником бога ботаников XIX века Пирама де Кандолля. Школа подчас визитная карточка ученого.
Он знал его работы, полные огромной эрудиции. Нэгели открыл сперматозоиды папоротников. Написал руководство по теории микроскопии и цикл работ по физиологии бактерий, в которых одним из первых поставил вопросы сопротивляемости организма, индивидуальной устойчивости к инфекции и о наличии защитных приспособлений.
Но эти его работы далеки от интересов Менделя. Зато близки другие. Нэгели принадлежала книга «Индивидуальность в природе и особенно в растительном мире», изданная в 1856 году, и ряд других работ, посвященных проблемам изменчивости и видообразования. Это он ввел понятия «ненаследуемые модификации», «наследуемые вариации» и «одомашненные расы», которыми наука оперировала в течение десятилетий.
Наконец, Нэгели был одним из немногих биологов, пытавшихся в ту пору перейти в науке от описания к анализу принципиальных схем природных процессов с применением в биологии математических методов. Нэгели создал математическую теорию роста, где пытался выявить закономерности динамики развития организма, динамики клеточных процессов. Правда, его подходы сейчас кажутся упрощенными; он был склонен здесь к крайностям.
«Клетки представляют собой элементы, из которых мы согласно математическим правилам можем построить органы», — ну, не так уж прямо, господин профессор!…
Но, зная труды Нэгели, Мендель увидел в нем человека, близкого по складу ума. И право, эрудиции и остроты у Нэгели было более чем достаточно, чтобы понять, сколь серьезна работа, присланная ему в Мюнхен из провинциального моравского Брюнна.
Однако Мендель не знал Нэгели-человека. Он не знал, что мюнхенский ботаник страдает патологическим честолюбием и абсолютно нетерпим к мнению, в какой бы то ни было степени расходящемуся с его взглядами. Правда, нетерпимость Нэгели проявлялась весьма интеллигентно: он игнорировал эти не нравившиеся ему мнения. Один из учеников его говорил, что он предпочитал оставлять без ответа любое суждение, направленное против его работ. Этот же ученик говорил, кстати, что Нагели была присуща привычка «забывать» ссылаться на труды, которые он использовал, когда писал свои солидные монографии, сколь ни были знамениты авторы тех трудов — пусть Ламарк, пусть Дарвин, Кант, Лаплас, Геккель.
…Что оценил Нэгели у Менделя? Видимо, феноменальную добросовестность, и работоспособность, и самоотверженность, и остроту мышления, которую ощущает всякий мало-мальски понимающий в биологии человек, читая «Опыты». Но он увидел в Менделе лишь талантливого любителя, и ему показалось, быть может, что под его, Нэгели, руководством из этого провинциального учителишки может выйти толк и школа Нэгели увеличится еще на одного новообращенного, который будет с почтением ссылаться в своих статьях на авторитет Наставника, указавшего ему дорогу в науке.
А главное, этот учителишка работал в области, которая, пожалуй, Нэгели привлекала более всего, ибо Нэгели понимал, что за гибридологическим анализом лежит познание основ наследственности. Но он понимал это в общей форме.
Он сам любил эксперимент ровно постольку, поскольку опыт может подтвердить интересную идею.
Нэгели сам разрабатывал теоретические проблемы наследственности. Много позднее, в 1884 году, он издал знаменитую свою книгу «Механико-физиологическая теория развития». Нам придется вспомнить еще об этом труде, который сделался краеугольным камнем течения, получившего впоследствии название неоламаркизма.
Это именно Карлу Нэгели, кстати, принадлежит знаменитое разделение организма на «идиоплазму», то есть вещество, ведающее наследственностью и размножением, и «трофоплазму», то есть на питающее «идиоплазму» тело. Нэгели строил сложные концепции о взаимодействии «идиоплазмы» с «трофоплазмой» и о том, каким образом в итоге этого взаимодействия могут наследоваться благоприобретенные под влиянием внешней среды новые признаки растений и животных.
Но в отличие от ранних ламаркистов Нэгели отбрасывал мистические построения насчет «стремлений» у животных и «флюидов» у растений, кои способствуют их совершенствованию. Он думать не думал на манер своих последователей середины XX века о «требованиях среды», которые-де организмы могут «ассимилировать». Он искал конкретные материальные причины изменчивости, и если он не нашел их, то это была не вина, а беда, ибо не было еще известно, как их искать и где.
И кстати, многие из построений Нэгели насчет благоприобретенных признаков проистекали из наблюдений за передачей признаков у ястребинок. У каждого биолога есть излюбленный объект, своего рода «hobby». «Hobby» Нэгели была ястребинка, растение с удивительно мелкими цветами, с которым так трудно работать, что даже сам Нэгели писал своему брюннскому подопечному, что, по его мнению, манипуляции по искусственному опылению ястребинок почти невыполнимы. А ястребинка была растением коварным. Ее уже тогда называли «крестом ботаников», ибо она вела себя необычно в сравнении с другими растениями.
И, как всякий человек, которому своя идея дороже чужих фактов, Нэгели не поверил в то, что на горохе удалось увидеть закономерность, общую для мира живого.
Его замечание, что всю работу следует начать сначала, было беспрецедентным. Он пропустил мимо глаз статистические выкладки Менделя, показывающие, на каком гигантском материале сделаны выводы. Он словно не заметил содержавшихся в «Опытах» указаний на такие же результаты, полученные Менделем в аналогичных экспериментах 1863 — 1864 годов с фуксиями, львиным зевом, кукурузой, тыквой, терновником.
Будь он элементарно бережен к чужому труду, не ощущай он себя светилом, с небывалой высоты озаряющим науку, он должен был поставить перед Менделем всего одну задачу: опубликовать подробные результаты всех проделанных экспериментов. Ведь текст менделевской статьи не был даже полным текстом доклада, занявшим два полных заседания. Это был конспект, из которого выжали не только всю «воду», но и значительную часть «мяса». Финансовые дела Брюннского ферейна естествоиспытателей были весьма плохи. Ферейн не мог выпускать более одного скромного томика в год. В тот томик редактор «Трудов» Густав Ниссль был обязан впихивать, втискивать конспекты всех докладов, прочитанных на заседаниях за двенадцать месяцев, протоколы дебатов и краткие статьи членов ферейна — те сообщения, на изложение которых даже не хватало времени на заседаниях. Тексты приходилось кромсать по живому. А у Менделя материала хватило бы, пожалуй, на целый самостоятельный том… И заикнись Нэгели о необходимости издать труд целиком, Мендель нашел бы денег, чтобы сделать это за собственный счет. Он не бедствовал теперь, и на худой конец ему не привыкать было делать долги.