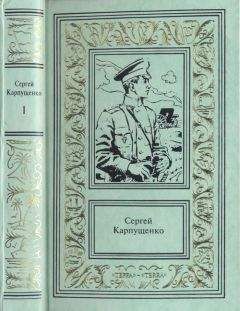При этом Костя всегда оставался загадкой: безусловно талантливый литератор, но не пишет; обаятельный мужчина, очень нравится женщинам, но не женится; бедный, не имеет ни кола ни двора, но не падает духом и не стремится к общепризнанным, осязаемым показателям жизненного успеха: ни к богатству, ни к почестям. Вдобавок ко всему, он, инвалид войны, никогда не "качает права", не требует льгот, как другие.
Во всем этом было что-то непонятное, странное, загадочное.
Борис Слуцкий в свои хорошие времена, до смерти жены, встречался с Костей и настоятельно рекомендовал больше писать, а многое из написанного, чуть подкорректировав, немедленно предложить "толстым" журналам.
Костя рекомендацию не воспринял, свои стихи не "корректировал", не приспосабливался к обстоятельствам, не лавировал. Он был чрезвычайно строг к своим работам, к собственным стихам.
Такая позиция существенно мешала ему работать энергично и регулярно.
Борис Слуцкий, осуждая - так он считал - Костину "леность", однажды сказал:
- У еврейского народа есть свой Обломов - Константин Левин. Можете гордиться!
Писать заказные репортажи в газеты Костя не хотел - пришлось бы кривить душой.
Я высказал свое мнение:
- Костя, почему ты не вставишь несколько смягчающих слов, как другие? Сдвинься
чуть-чуть, чтобы начали печатать, и, возможно, все пойдет быстрее, глаже.
Костя же от своих принципов не отступал:
- Я давно решил, что нельзя облегчать себе жизнь лицемерием и лавированием ни малым, ни крупным.
У Кости в молодые годы были серьезные творческие планы. Он собирался написать не только цикл стихов, но и крупную прозаическую вещь о войне и военной поре. В зрелые годы он многократно возвращался к этой мысли и сожалел, что не вел дневник. Он побуждал меня вспоминать интересные случаи из моей фронтовой жизни, которая по случайному стечению обстоятельств оказалась более продолжительной, чем его.
Он вспоминал и уточнял технические подробности устройства сорокапятки и трехдюймовки, обсуждал работу с прицелом и уставную последовательность команд. Это должно было пригодиться в будущем для работы над книгой.
Мы перебирали в памяти училищных командиров и преподавателей, различные происшествия на занятиях, на стрельбах, в нарядах по кухне, на конной подготовке...
Хорошо запомнилась нам, в частности, "лошадиная" эпопея...
...Артиллерия, как известно, нуждается в "тяге". Наше эвакуированное училище тогда ни механической (тягачей), ни иной тяги не имело. Командование приняло единственно выполнимое решение: обзавестись конной тягой.
В феврале 1943 года нам пригнали из Казахстана полсотни диких, прямо из табуна, необученных лошадей. Некому да и некогда было в то суровое время приручать и обучать этих лошадей, заниматься выездкой.
Мы получили диких зверей, а не домашних животных. Особенно свирепствовали жеребцы. Трудно приходилось нам, городским ребятам, не имевшим никакого опыта обращения с лошадьми. Я давно забыл имена многих однокашников, но лютого жеребца по кличке "Топор" и мою "личную" (прикрепленную) кобылу "Умницу" крепко запомнил. "Табунные" лошади были, действительно, умны и хитры. Нас, людей, точнее, неумелых наездников, они не уважали, не боялись, а, может, даже презирали.
Коварная "Умница" часто донимала меня. То она, как бы невзначай, наступит копытом на ногу, то прижмет своим боком к стенке конюшни. Во время занятий она на полном скаку часто останавливалась как вкопанная, и я вылетал из седла...
Необузданный "Топор" однажды дал такую "свечку", что разбил голову дневальному по конюшне. Курсант стал тяжелым инвалидом и был списан, как не годный к военной службе. В один из весенних дней во время водопоя и купания лошадей на реке кто-то из наших курсантов не удержал "Топора". Распалившийся жеребец погнался за приглянувшейся ему "Умницей", которую я как единственную "даму" приводил и уводил с реки заранее, до того, как приведут жеребцов. Во избежание эксцессов. В момент, когда сорвался "Топор", я верхом на "Умнице" возвращался в конюшню. Услышав, к счастью, за спиной резвый конский топот и крики товарищей, я чудом успел соскочить в последнее мгновение. А то быть бы беде...
В апреле 1943 г. ветфельдшер устроил стерилизацию, и кони присмирели.
Совместные воспоминания нас увлекали. Но вот что удивительно: запечатлевшиеся в памяти каждого детали эпизодов оказывались часто не вполне идентичными. Все же совместными усилиями многое удавалось надежно восстановить.
К сожалению, кроме спонтанных разговоров ничего не происходило. Работу над книгой Костя так и не начал. Не составил никакого плана, не написал ни единой строки.
Мы беседовали подолгу, иногда до утра; рассуждали о многом: о текущей жизни и политике, о вере и безверии, о войне и фронтовых друзьях и, конечно, о женщинах...
Костя сознавал, что живет в неправедном обществе, что гражданский долг велит бороться со злом. Но в своих реальных возможностях что-то изменить он довольно рано разуверился:
Запропали в грохоте и дыме,
Сожжены солдатики дотла.
Никого ты больше не подымешь
Против наступающего зла.
К. Л. 1981 г.
Столкнувшись еще в 1947 г. с грубой силой существующей власти, не допускавшей никакого инакомыслия и, не желая лгать, Костя отказался печатать свои стихи:
Остается одно - привыкнуть,
Ибо все еще не привык.
Выю, стало быть, круче выгнуть,
За зубами держать язык.
Остается - не прекословить,
Трудно сглатывать горький ком,
Философствовать, да и то ведь,
Главным образом, шепотком.
А иначе - услышат стены,
Подберут на тебя статьи,
И сойдешь ты, пророк, со сцены,
Не успев на нее взойти.
К. Л. 70-е годы.
Костя понимал, что выхода нет, что нужно писать хотя бы в стол. Писать регулярно. Определенным стимулом для него был пример В. Корнилова, который, помимо стихов, начал писать прозу. Он приносил Косте для прочтения и обсуждения свои рукописи. Обсуждения бывали очень обстоятельными. Помню, Корнилов принес "Демобилизацию", которую намеревался издать за рубежом. Костя сказал мне:
- Володя, безусловно, талантлив, но войну знает только понаслышке. Кое-что написано неубедительно, легковевесно, но некоторые эпизоды сделаны сильно. Между прочим, есть у него даже евреи-герои. Там одна еврейка-медсестра погибает, защищая раненых солдат. По нынешним временам, писать о евреях хорошо - смелый поступок. Замысел, вообще, стоящий, но написано все же слабовато.
Я обычно пользовался случаем, чтобы вставить лыко в строку:
- Вот тебе, Костя, хороший пример и стимул. Володя решился написать о войне. А ты боишься, хотя знаешь войну не понаслышке. Я уверен, что ты напишешь лучше, достовернее.