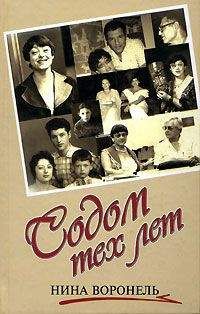Против моего трупа Марья, собственно, ничего не имела, но Саша, поприустав от ее скандала, поддержал меня, а не ее, и где-то около часу ночи ей пришлось сесть в такси и отбыть к себе в Фонтанэ-о-Роз.
Не знаю, что произошло у них там за эту ночь, но в шесть часов утра меня разбудил телефонный звонок. Звонил Андрей, чтобы сдавленным голосом сообщить мне, что он никогда – слышишь, НИ-КОГ-ДА! – не соглашался встречаться с Максимовым без Марьи. Я только успела спросить: «Она, что, всю ночь тебя била?», как в разговор по параллельной линии вступила Марья. Она потребовала, чтобы я немедленно позвонила Максимову, объяснила ему, кто он такой, и отменила назначенную встречу. Мне уже эта история изрядно надоела, я умирала, хотелось спать, – полночи ушло на сборы Саши и его отъезд на вокзал, а мне самой предстояло через несколько часов улетать в Израиль, и у меня еще было полно дел. Поэтому я сказала: «Улаживайте свои дела сами!» и положила трубку.
Через секунду телефон зазвонил снова. На этот раз Марья сразу перешла к угрозам: она сказала, что теперь она нас заклеймит и сообщит всему миру о нашей с Воронелем провокационной роли в их отношениях с Максимовым, и заодно поведает тому же умирающему от любопытства миру о причинах нашего столь вопиющего поведения. Я не стала эти причины выяснять, а просто положила трубку и, попросив портье никого больше со мной не соединять, немедленно уснула. Честно говоря, я боялась, что Марья примчится в отель, чтобы продолжить перебранку, но она, слава Всевышнему, этого не сделала.
На этой, я бы осмелилась сказать, трагикомической ноте закончилась наша многолетняя дружба с Синявскими. Впрочем, это был, пожалуй, всего лишь завершающий аккорд, а прощальная песня стала складываться еще раньше, постепенно, исподтишка, за год или два до разрыва. Первым бурным запевом ее была моя ссора с Марьей из-за рукописи «Белой книги», почти стенографически передающей все, что было сказано на процессе. В фактической версии своих воспоминаний я подробно рассказала, как во время процесса я вместе с Леонидом Невлером каждую ночь напряженно расшифровывала Ларкины сбивчивые полустенографические записи и придавала им обтекаемо литературный вид. Даже о знаменитой заключительной речи Синявского я могла бы с затаенной гордостью сказать «редактура моя».
После выезда меня часто интервьюировали журналисты разных стран, возможно, потому, что мой хороший английский позволял им делать это с легкостью. И вот в одном таком интервью я между прочим упомянула о своей роли в создании протоколов процесса Синявского-Даниэля. Именно это интервью почему-то было переведено на русский язык и опубликовано в одной из эмигрантских газет, – кажется, в «Русской мысли», но не ручаюсь. Оно попало на глаза Марье, которая учинила мне грандиозный скандал, утверждая, что это она записала все сказанное на процессе. И потребовала от меня, чтобы я публично отказалась от версии о моей причастности к тексту «Белой книги». Вообще-то мне было все равно, мои амбиции лежали в других областях культурной жизни, но такой явной неправды я вынести не могла, – все-таки я, рискуя своей свободой, за десять бессонных ночей расшифровала, отредактировала и переписала собственной рукой сотни страниц. Почему я должна была уступить эту честь ей, которая и ручку-то в руках не держала? Еще Ларке уступить я бы согласилась, ведь это были ее записки, но Марье – с какой стати?
И я категорически отказалась совершить публичное отречение от своей роли, хотя отлично понимала, что все это уже мхом поросло и никого не интересует. Тогда, смирившись с моим отказом, Марья все еще в форме приказа, но уже тише и ласковей, попросила никогда не рассказывать обо всем этом Андрею, потому что она еще во время его отсидки приписала себе авторство создания текста «Белой книги». Против этого я не возражала, – пусть Андрей принимает все, что Марья ему расскажет, мне-то что? И мы спустили нашу ссору на тормозах. Однако особой теплоты к нашей дружбе это не добавило.
Сегодня, оглядываясь назад, я спрашиваю себя, можно ли было назвать это дружбой? Очищенные временем от шелухи повседневности наши многолетние отношения все больше и больше напоминают мне переход через перевал Суть-булак, который мне удалось однажды совершить в теплой компании таких же, как я, безумцев. Перевал этот, уютно пристроившийся на головокружительной высоте 4100 метров, – не что иное, как узкий пролом в гораздо более высокой гряде Тянь-Шаньских гор, отделяющих Среднюю Азию от Китая. Он представляет собой семикилометровый ледник, со всех сторон окруженный уходящими далеко в небо снежными горами, от одного вида которых захватывает дух и кружится голова. Внизу, за горами скрывается почти недосягаемое, мистическое и прекрасное, озеро Иссык-Куль. Ледник Суть-булак густо засыпан снегом, и идти по нему крайне опасно, потому что весь он рассечен крупными и мелкими трещинами, незаметными под снежным покровом. Таким растрескавшимся ледником смотрится мне сейчас наша дружба с Синявскими – вокруг сверкающие вершины, а под ногами коварная снежная пелена, скрывающая смертельную опасность при каждом шаге.
Но хоть дружба, какая они ни была, кончилась, – а, может быть, именно поэтому, – вопрос о публикации показаний С. Хмельницкого нужно было решать именно нам. Не совсем нам лично, а всей редколлегии журнала, но все же решающее слово было за нами. Отважиться на публикацию было нелегко, но исповедь Хмельницкого давала ответ на некоторые болезненные вопросы – у нас, к сожалению, за прошедшие годы накопилась некая цепочка не укладывающихся ни в какую благожелательную концепцию фактов.
Если вспоминать с самого начала, то первым камнем преткновения стала ссора с Синявскими нашего сына Володи во время его борьбы за наш выезд. Его, несмотря на молодость, выпустили раньше чем нас, и еврейская организация, занимавшаяся проблемой отказников, отправила его в поездку по Европе – собирать для нас поддержку. В Париже он пришел к Синявским и с юношеской прямотой потребовал от них помощи – тем более, что именно тогда Сашу отправили в Серпуховскую тюрьму, а меня посадили под домашний арест. Володя знал, сколько сил и времени потратили мы за прошедшие годы на помощь Синявским, и наивно полагал, что они в нашем случае должны поступить так же.
Они наотрез отказались, ссылаясь на какую-то труднообъяснимую сложность своего положения – французского правительства они боялись, что ли? Володя подумал, что ослышался, и продолжал настаивать. Тогда Марья объявила свой любимый принцип, чтоб дети не смели открывать рот в присутствии взрослых. Тут Володя все понял и ушел, хлопнув дверью. С тех пор он не называл их иначе, как «ваши неверные друзья».