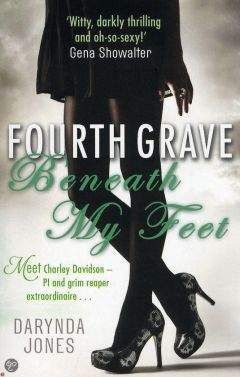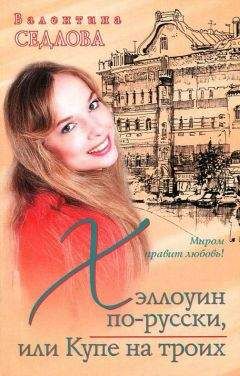— Почему ты вдруг вывалила это на меня? Это произошло в прошлом году, и ты все это время знала об этом.
— А разве твой друг не будет чувствовать себя ужасно, если узнает об этом, пусть это и было год назад?
Ее охватила настоящая паника.
— Ты пойдешь к нему? Ты так ненавидишь меня или Чарли, что пойдешь к У. Р.?
— Нет, но он узнает об этом, — ответила я. — Если ты не поможешь мне.
— Боже, — простонала она. — Боже, У. Р. с ума сойдет..
— Мои адвокаты и я хотим покончить с делом и добиться урегулирования, но Чарли уперся. Теперь слушай меня внимательно, Мэрион, и не сомневайся ни секунды в моей серьезности. Чарли хвастался мне, что у него были делишки с шестью женщинами за последние полгода. Пять из них — знаменитости, и одна из этих пяти ты. Нам ничего не надо доказывать. Все, что нам потребуется сделать, это назвать эти шесть имен, с Мэрион Дэвис во главе списка, и потом просто сидеть и смотреть, что будет дальше. Разумеется, ты можешь поклясться У. Р., что это неправда, и вероятно, он поверит тебе. Но тебе это надо?
После тяжелой паузы она сказала опустошенно:
— Я знала тебя совсем другой. Как ты стала такой жесткой?
— Легко, — сказала я. — Я вышла замуж за Чарли Чаплина.
Это сработало. История гласит, что Чарли вызвал Натана Буркана в Лос-Анджелес (расстояние в 3000 миль от Нью-Йорка) и встретил его на вокзале. Они пошли в кофейню, и Чарли спросил: «Натан, что мне делать?» Буркан ответил одним словом: «Соглашаться». И следующим же поездом отправился назад на Восток.
Двадцать второго августа 1927 года я первый и единственный раз предстала в качестве свидетеля.
Меня расспрашивали в течение десяти минут о достоверности моего заявления, и я ответила, что каждый пункт изложен правильно. Судья Уолтер Герин уступил мне заботу о детях и об их состояниях. Каждому из них был назначен доверительный фонд в 100 000 долларов. Моя компенсация составляла 625 000 долларов. Чарли на суде не было.
Парадоксально, думала я. Если бы Чарли принял мое предложение в тот день, когда я была в его доме, это обошлось бы ему в десять тысяч долларов. Теперь же, вместе с расходами на адвокатов, он потратил более миллиона.
Через четыре дня после постановления судьи мама срочно легла в больницу для удаления аппендикса. Через пять часов после того, как ее отвезли в операционную, вышел хирург и сказал:
— Прежде всего, она жива.
— Слава богу, — прошептала я.
— Теперь об остальном. У вашей мамы был не только аппендицит. Я обнаружил опухоли в обеих трубах и опухоль в матке. Они удалены, но пока еще рано судить, как она справится.
Я охнула и схватила его за запястье.
— Держитесь, миссис Чаплин, вам понадобятся силы в ближайшие несколько дней, а, может быть, и больше, пока она преодолеет — или не преодолеет — кризис. Это состояние длилось несколько лет, не знаю, как она обходилась без лечения. Неужели она даже не подозревала, что у нее здоровье не в порядке?
Я качала головой и пыталась найти слова.
— Ее предупреждали. Ей советовали около двух лет назад сделать операцию. Она не желала и слышать. Я пыталась убедить ее пойти в больницу — но потом перестала настаивать, поскольку думала только о себе…
Я спросила в ужасе:
— Что же мне теперь остается — только ждать? Вы не можете дать ей что-нибудь, сделать что-то еще для нее?
— Сейчас нет. Мы можем только ждать.
Три дня я не покидала больницу. Дедушка и бабушка шагали взад-вперед по коридорам, сдержанные, хотя и страшно обеспокоенные, и все-таки слушались здравого смысла и время от времени уходили домой передохнуть. Дежурные медсестры давали мне информацию, безуспешно пытались убедить меня отправиться домой и, когда это было возможно, сидели со мной.
На третий день после операции я вошла в комнату к маме. Возле кровати стояли хирург, м-р Фридман, и сестра. Первое, что я увидела, подойдя поближе, были две огромные иглы у нее в груди.
У меня закружилась голова и я схватилась за металлический поручень у изножья кровати, чтобы удержаться. Ее глаза были широко открыты, но она была в коме.
Доктор Фридман вывел меня в холл.
— Не стану обманывать вас, — сказал он. — Третий день после такой операции действительно очень тяжелый. У вашей матери операционный шок, и она может отойти от него, а может — не отойти. Мы делаем все, что можем. Посмотрим сегодня, что будет дальше.
Три дня и три ночи я не уходила отсюда. Но теперь, наоборот, когда все указывало на то, что лучше остаться, я почувствовала, что не могу больше ждать в больнице. Я поспешила к одной из сестер, которая была особенно заботлива, и спросила:
— Вы можете сделать для меня кое-что и не думать, что я сошла с ума. Я хочу отправиться в парк Гриффит покататься верхом. Когда вы узнаете что-нибудь о моей матери — что угодно, — вы не можете позвонить мне туда и сказать, что… ну, что бы там ни было?
— Конечно. Вы очень хорошо придумали.
Пока я ехала в такси, я была уверена, что схожу с ума. Что за блажь ездить верхом в такой тревожный момент? Какое оправдание можно найти подобному малодушию? Моя мама умирает, а мне не хватает духу ни на что, кроме как удрать от нее! Я сказала человеку, который давал мне лошадь напрокат, что жду телефонного звонка, и попросила его послать кого-нибудь разыскать меня и передать информацию, сразу же, когда позвонят. Человек удивленно вздернул брови в ответ на мою странную просьбу, но согласился.
Я была далеко не опытной наездницей, и мои нервы были на пределе от волнения и бессонницы, но я села на лошадь, и она исправно скакала. Как бы я ни смеялась над суевериями и черной магией, я не могла отделаться от ощущения, что бог наказывает маму за мои грехи. За долгие месяцы между январем и августом я, наконец, стала женщиной, да — бессердечной, алчной, жаждущей получить большие деньги от своего мужа и готовой втоптать в грязь имена других женщин — даже той, что была подругой. И теперь из-за этого моя мать должна умереть.
Я мчалась на лошади. Августовский ветер трепал мне волосы, глаза щипало, и я молилась. Я обещала богу, что если мама выживет, то никогда больше я не буду воспринимать близких как само собой разумеющееся. Она столько сделала для меня, а я так мало дала ей в ответ. Больше двух лет назад доктор советовал ей удалить опухоли. Я была у него в приемной и слышала его, но позволила себе забыть об этом. Я могла уговорить ее лечь в больницу. Тогда это могла быть простая операция, и она могла быстро оправиться после нее; лучше, чем теперь. Но я не сделала этого, потому что была полностью поглощена собой. Вечное дитя, маленькая девочка, которая ждет, что ее возьмут за руку и переведут через улицу… Не был ли мой брак безнадежным с самого начала? Если бы я не была беспомощным ребенком, если бы я больше работала над собой, тогда может быть…