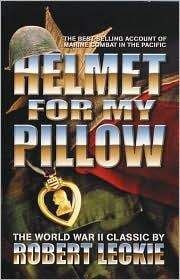Теперь лейтенант Большое Кино взирал на меня с неприкрытой ненавистью, даже несколько странной для человека, привыкшего командовать.
— Ладно, — процедил он сквозь зубы, — я позабочусь о тебе, когда вернешься. Ты, наверное, думаешь, что победил меня, но тут ты глубоко ошибаешься. Ты все равно будешь работать на камбузе как миленький.
— Да, сэр, — ответил я. — Разрешите идти?
* * *
Большой транспортный самолет с ревом прокатился по взлетно-посадочной полосе на мысе Глосестер и взмыл в воздух. Я удобно устроился на отведенном мне месте. Выровнявшись, самолет пролетел над проливом Дампьер и взял курс на Новую Гвинею. Оказалось, что джунгли сверху похожи на плотную брюссельскую капусту.
Самолет приземлился на мысе Судест. Там нас ожидала санитарная машина, окрашенная в цвет хаки. Теперь мы находились в руках армии. Мы направлялись в один из армейских стационарных госпиталей. Он располагался в сборном доме из гофрированного железа. Медсестра — первая женщина, которую я увидел за последние шесть месяцев, — выдала мне пижаму и проводила к койке. Два или три дня пролетели незаметно и показались мне сущей идиллией — лежишь, читаешь, трижды в день получаешь горячую пищу, вечером идешь в кино. Потом настал день осмотра. Врачи решили, что такую операцию не стоит делать в тропиках, но почему-то не приняли решение отправить меня в Австралию или даже в Штаты.
Невозможно выразить, как я был разочарован. Неужели придется возвращаться на мыс Глосестер к мстительному Большому Кино, простившись с прекрасной библиотекой, обнаруженной мной в госпитале? Но ночью ситуация опять изменилась. Меня свалил жесточайший приступ малярии.
Даже в самых страшных ночных кошмарах я не предвидел такого ужасного избавления. Я был далеко от камбуза и мстительного лейтенанта, но зато все мое тело жгло огнем, и я бы предпочел год провести на камбузе и иметь десяток командиров вроде Большого Кино, но только выбраться из адского пламени, в которое угодил. Нет, конечно, я не стремился ни к чему подобному. Я только хотел, чтобы меня отпустила яростная лихорадка, безостановочно сотрясавшая тело. И если бы смерть оказалась единственным избавлением, что ж, пусть будет смерть.
Лежать на спине было пыткой, лежать на животе — мукой. Я ложился на бок, но даже в такой позе у меня болело все тело, словно попало в гигантские тиски. Я не мог есть, я не мог даже пить воду. Питание мне вводили внутривенно — не знаю, как долго, должно быть, дней десять или две недели. И все время я лежал и жарился, запекался — не тлел, не горел, а именно пекся, словно находился в огромной печи, чувствуя, как желание жить внутри меня тоже сморщивается, усыхает. У меня не было никаких желаний — единственное, чего хотелось, это чтобы хотя бы крошечная капелька пота прорвалась наружу из моей ссохшейся, съежившейся плоти. Я слышал, что вокруг меня есть живые люди, они ходят, разговаривают и даже смеются. Я чувствовал моментальную прохладу, когда смоченная в спирте вата касалась моей руки — благословенное напоминание о мире, который я покинул. Я ничего не воспринимал, лежа на своей койке кучкой изболевшейся плоти и костей, съеживаясь в малярийной печи.
А потом жар спал, и из всех пор целительным бальзамом хлынул пот. Он принес моему телу божественную прохладу, и я бы мог смеяться, петь, кричать, если бы на это хватило сил. Я чувствовал себя неблагодарным, лежа на койке, омываемый прохладной жидкостью, вытекавшей из моего тела, и не выказывая никаких знаков благодарности. Но я был слишком слаб, чтобы двигаться. Так атеист не имеет Бога в душе, чтобы поблагодарить за оказанную милость. И к тому же я настолько удалился от собственной религии, что не чувствовал порыва изливать благодарность в душе.
Пот промочил постель насквозь, и медсестра, обрадовавшись, что я пошел на поправку, перевела меня на другую койку — ее я промочил тоже. А потом начался озноб. Меня колотила дрожь, и на меня навалили целую груду одеял. Температура воздуха была больше сорока градусов, но меня укрыли так, словно она была раза в четыре ниже, и я все равно мерз. Но после пережитого мне уже все было нипочем. Я даже стал смеяться и часто повторял дрожащими губами: «Мне хорошо, Господи, как мне хорошо!»
В конце концов и это прошло, но потребовалось несколько дней, прежде чем я смог сесть и начать есть. Запах пищи вызывал у меня тошноту, питался я поначалу только чаем и ломтиками подсушенного хлеба. Потребовалось довольно много времени, прежде чем я стал есть с остальными пациентами, причем, насколько я помню, первую ложку пищи я поднес ко рту с большим трудом.
А еще через неделю я покинул госпиталь. Назад на эвакуационный пункт на берегу, а оттуда на мыс Глосестер, причем пролив Дампьер мы пересекали ночью на переоборудованной рыболовной шхуне. И как назло, разразился сильнейший шторм. Черная вода вздымалась над бортами судна и обрушивалась на палубу, где мы мирно спали. Пришлось спасаться в каюте, где мы и провели ночь, страдая от морской болезни.
Не буду утверждать, что по возвращении на мыс Глосестер мне улыбнулась судьба, но, по крайней мере, она не проявила излишней жестокости. Выяснилось, что большая часть моего батальона ведет патрулирование где-то в отдаленной части острова, и лейтенант Большое Кино в том числе. Главный сержант, увидев, что я очень слаб, проявил милосердие и назначил меня на легкую работу — в столовую старшего сержантского состава. Итак, мой полет на Новую Гвинею оказался, по существу, бесполезным. Грыжа осталась со мной, и я получил только небольшую отсрочку благодаря приступу малярии. Вернувшись в часть, я тут же попал на камбуз, тем самым доказав, что рядовой, рассчитывающий на свои силы, просто самоуверенный идиот.
Собственно говоря, в этом назначении не было ничего слишком неприятного. Следовало только соблюдать чистоту в палатке, смахивать крошки с деревянных столов и накрывать столы для горстки людей, свободных от патрулирования. Пищу им доставляли с главного камбуза в оловянных контейнерах.
Через несколько дней батальон вернулся, и я был счастлив услышать, что Большое Кино перевели, а нашим новом командиром стал Либерал — довольно молодой второй лейтенант, отличившийся тем, что в первом патрулировании убил японца.
Несколько следующих недель были бедны на события. Чтобы скоротать время, мы начали играть в бридж. Мы играли увлеченно, прерываясь только на сон и еду или получение денежного довольствия. Мы превратились в завзятых игроков и оставались ими до наступления кульминационного момента, когда Игрок, раздосадованный неумелыми действиями партнера, вскочил, в сердцах разорвал единственную колоду карт и разбросал свечи.