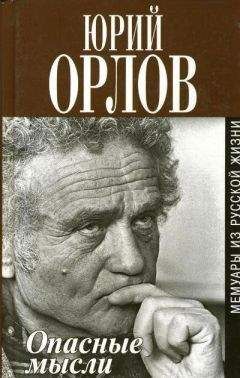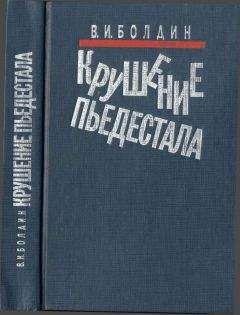Когда начальников поблизости не было, я созвал заключенных.
— Слушай! — сказал я Монголу. — Мы напишем заявление. Тебя переведут обратно к уголовникам. Здесь тебе, видно, слишком безопасно.
— Ха! — ответил бандит уверенно. — Я, если хошь, убью кого хошь, и ничего мне не будет. У меня справка, я псих, понял?
Это был более чем логичный ответ. В реальной жизни работает не та логика, что в учебниках.
— Психов везде много, — темно заметил я.
Он понял так, что мы держим в голове что-то такое, о чем не объявляют, и на время утих. До этого чекист Гадеев инструктировал его только по субботам, когда приходил к полицаям за кроликами. Теперь они обсуждали общее дело каждый день.
Мы тоже собирались часто.
— Вам готовят новый срок, — говорил Читава. — Уголовную статью любой ценой. Второго политического процесса для вас не хотят, потому что обожглись на первом. Выход я вижу только один: поймать вора. Тогда мы переломим ситуацию.
И Читава поймал вора. Это был второй уголовник, державшийся тихо, как бы в стороне. Он перекладывал кальсоны из одной тумбочки в другую — в мою, когда был схвачен Читавой за руку.
— Поговорим, — сказал Читава тихо.
Миши Карпенка не было — он кончал свои семь лет, и его держали в изоляторе, чтобы мы не смогли передать с ним чего-нибудь на волю. (Это не помогло. Я передал ему, а он через Тарасова Ирине, работу по логике.)
Читава взял уголовника за плечи и затряс, глядя в глаза:
— Ты что? Ты зачем это делаешь, подонок! Кто тебя научил? Кто велел? КГБ? КГБ?
С уголовника упали очки. Грузинский интеллигент Читава нагнулся поднять их, и уголовник, схватив небольшой, но тяжелый керамический чайник, с размаху проломил ему череп…
Я был на улице, когда услышал истерический вопль полицая, выскочившего из барака:
— Наших бьют!
Тут же в барак помчался Монгол с огромной свежеобструганной дубиной (дубины запрещены, успел подумать я).
— Ты что, чурка, стоишь! — кричал полицай солдату на вышке, татарину — Звони дежурному, убивают!
Я вбежал в барак. Бандит остервенело молотил упавшего на пол Морозова и заодно гомосексуалиста. Я подскочил, он перенес дубину на меня. С ним рядом стоял сержант, молча и внимательно наблюдавший за мной.
«Не поднимай рук!» — сказал я себе.
Донесся новый крик: «Бей правозащитников!» — и второй уголовник, вор, присоединился к сержанту и бандиту.
Тут я увидел Читаву.
Я отбежал. Вместе с Марзпетом мы перенесли Читаву в безопасное место и накрыли бушлатом. Уже входили офицеры.
— Морозова — в штрафной изолятор!
За что? Его подняли, но он откуда-то вынул бритву, полоснул себя и упал.
— Арутюняна — в штрафной изолятор!
За что? Но он не сопротивлялся.
В барак все входили и входили начальники.
Читаву перенесли в санчасть. Немедленно началось «расследование».
Собственно, они планировали просто оформить ложные показания по новому уголовному делу о «драке и беспорядках, учиненных группой заключенных, в составе Читавы, Арутюняна, Морозова и гомосексуалиста, организованной и руководимой заключенным Орловым». Все это и было написано — под диктовку — бывшими полицаями и двумя уголовниками в тот же день. Чтобы не создавать ненужной, так сказать, путаницы в показаниях, никого из «группы», кроме, конечно, их агента, гомосексуалиста, не вызывали.
Но чувствовали чекисты недоделку. Нужны были прямые доказательства моего «руководства» беспорядками. Где был Орлов, когда «руководил дракой»? Что делал? И тут вышла осечка. Старики латыши, сидящие за военное время, кто за что, на которых гебисты понадеялись, что они, мол, давно перевоспитались и понимают сами, где правда, а где ложь — «каждый советский человек это понимает» — врать отказались и показали: Орлов во время событий разговаривал с ними на улице и в драке не участвовал.
— На какие темы, о чем говорили с Орловым?
— Да о чем? Ни о чем. О грибах, — отвечали старики.
Кодерс, бывший антисоветский партизан, добавил:
— Вместе и в общежитие вошли. Потом ни с того ни с сего Орлова били дубиной.
— Кто бил Орлова? Какой дубиной?! Вы лично видели?
— Да что ж я. Я заключенный. Вы своего человека, сержанта спросите.
— До Орлова никто не дотрагивался. Вам показалось. Ведь вы в драке не участвовали? Или участвовали? А? Идите.
Пришлось гебистам исключить латышей из дела и дело осталось — пока — незавершенным.
Мне «показалось», что меня били, и я пошел к доктору.
— Вам опять что-то мерещится, Орло-о-в! — пропели дуэтом врачи — жена опера и жена чекиста. — Никаких полос на спине у вас нет, не преувеличивайте. Гриппозное состояние. Освобождение получите.
Кровавые полосы на моей спине видела вся зона.
К Читаве не пускали. Охранял его фактически бандит Монгол: его тоже положили в санчасть — нервы! Второй уголовник, вор, разгуливал по зоне. Я объявил голодовку.
«Уберите бандитов, — писал я в заявлении, — накажите провокаторов».
Врачи, конечно, тут же отменили мое освобождение от работ, и меня заперли в штрафной изолятор «за призывы к голодовке и оскорбления заключенных». Так, к концу лета 1982 я снова оказался в одиночке: сначала две недели в ШИЗО, затем, не меняя камеры, в режиме ПКТ. В изоляторе было все как обычно. Метр десять на три метра. Воробьиный рацион. Негасимая лампочка в сорок свечей. Ветер в щелях. Ледяные ночи. Но — прервана погоня. Нет стукачей, бандитов, полицаев. Только я да охранник да глазок между нами. Можно наконец передохнуть.
Тяжело в лагере физически, но тяжелее психологически, потому что КГБ ни на минуту не оставляет тебя в покое. Если ты не меняешь взглядов, что прямо отмечается в характеристике, то КГБ будет пытаться сломать тебя как личность. За исключением немногих, ты не можешь доверять людям. Нужно быть готовым к провокации в любой момент. В этом смысле одиночка легче зоны.
Читава пролежал в тюрьме-больнице месяц, оттуда его переложили в штрафной изолятор за ту «драку». Затем его перевели в другую зону.
То запирали, то выпускали из изолятора Марзпета.
Морозова увезли в Чистопольскую тюрьму. Мы так и не узнали, как он смог достать бритву.
Уголовников и гомосексуалиста, видно, решили использовать в других зонах и перевели туда.
Планы для нашей зоны, так или иначе, Читава чекистам нарушил, нужны были новые. Меня пока морили в одиночке. Но я жил и даже занимался наукой.
Однако что это значит — заниматься наукой в лагере? Думать — хорошо, думать — наслаждение, даже если тебе хочется лечь на пол от усталости после работы в рабочей камере, что запрещено. Но если ты решил записать свои идеи и передать их на волю, потому что неизвестно, доживешь ли ты до этой самой воли, то ты проклянешь себя! Ты пишешь украдкой на папиросной бумаге микроскопическим почерком: «Волновая функция F равняется…» — и ждешь каждую секунду: сейчас засекут, накажут, работа пропадет. Потом твой друг в прямом смысле глотает твои мысли, скатанные в шарик, завернутый в пленку. Он надеется на личное свидание с женой. На свидании его жена отмоет этот шарик и тоже проглотит, и увезет на волю. Друг ждет свидания, его дают всегда неожиданно… Он глотает, моет, глотает, моет, глотает и перепроглатывает твою работу множество раз. И — ему не дают свидания, как не давали и тебе пять лет. Ты начинаешь все сначала. Уже почти все приготовлено. Где пленка? Но к тебе неожиданно подходят и ты стремительно уничтожаешь все. И начинаешь опять все сначала. Передаешь работу в, увы, ненадежные руки: может быть, все-таки, повезет. Ненадежные руки отправляют написанное в КГБ, тебя отправляют в штрафной изолятор. В штрафном изоляторе ты возвращаешься к своим мыслям… Оказывается, ты поспешил. А поспешил потому, что понадеялся на оказию. Волновая функция F не равняется тому, что ты написал!