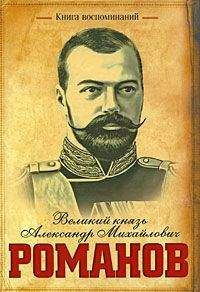Этот аргумент был неотразим, и мы ломали себе голову над тем, как убедить Царя отдать распоряжение о высылке Распутина из столицы.
— Вы же шурин и лучший друг Государя, — говорили мне очень многие, посещая меня на фронте: — отчего вы не переговорите об этом с Его Величеством?
— Отчего я не говорил с Государем? — Я боролся с Никки из-за Распутина ещё задолго до войны. Я знал, что, если бы я снова попробовал говорить с Государем на эту тему, он внимательно выслушает меня и скажет:
— Спасибо, Сандро, я очень ценю твои советы.
Затем Государь меня обнимет, и ровно ничего не произойдет. Пока Государыня была уверена, что присутствие Распутина исцеляло Наследника от его болезни, я не мог иметь на Государя ни малейшего влияния. Я был абсолютно бессилен чем-нибудь помочь и с отчаянием это сознавал. Я должен был забыть решительно все, что не входило в круг моих обязанностей главнокомандующего русскими военно-воздушными силами.
5
Наступил 1916 год. Я перенес мой штаб в Киеве и готовился оказывать содействие главнокомандующему нашим юго-западным фронтом генералу Брусилову в его проектировавшимся наступлении против австрийцев.
Императрица Мария Федоровна приехала в Киев к своей младшей дочери Великой Княгине Ольге Александровне, которая с 1915 г. стояла во главе своего госпиталя в Киеве. Вырвавшись из атмосферы Петербурга в строгую военную обстановку Киева, Императрица чувствовала себя хорошо. Каждое воскресенье мы встречались втроем в её Киевском дворце, старинном доме, построенном на правом берегу Днепра. После завтрака обычно, когда все посторонние уходили, мы оставались в её будуаре, обсуждая события истекшей недели. Нас было трое — мать, сестра и шурин Императора. Мы вспоминали его не только как родственники, но и как верноподданные. Мы хотели служить ему всем, чем могли. Мы сознавали все его недостатки и положительные стороны, чувствуя, что гроза надвигается, и все же не решались открыть ему глаза. Вдовствующая Императрица продолжала оставаться в курсе всего, что происходило в Петербурге. В течение всех пятидесяти лет своего пребывания в России, она ежедневно обменивалась письмами с своей сестрой королевой английской Александрой, и невозможность получать эти письма из Англии во время войны усугубляла её беспокойство.
Очень популярная в среде населения города Киева, Мария Федоровна каждый день прогуливалась в открытом экипаже, весело отвечая на приветствия прохожих, но неотвязные думы о сыне Никки, о невестке Аликс и о несчастном внуке Алексее не оставляли ее. Остальные члены её семьи не причиняли ей забот. Её старшая дочь Ксения жила с детьми в С. Петербурге и заведовала большим госпиталем для раненых и выздоравливавших. Её внук, мой сын князь Андрей должен был вскоре выйти в Кавалергардский её Величества полк и отправиться на фронт. Её младший сын, Миша — Великий Князь Михаил Александрович, был всеобщим любимцем на фронте, и Дикая дивизия, состоявшая из Кавказских туземных частей и не выходившая из боев, считалась Ставкой нашей лучшей кавалерийской боевой единицей.
Что же касается её младшей дочери, Великой Княгини Ольги Александровны, то самые заклятые враги династии не могли сказать ничего, кроме самого хорошего о её бескорыстной работе по уходу за ранеными. Женщины с душевными качествами Великой Княгини Ольги представляют собою редкое явление. Всегда одетая, как простая сестра милосердия и разделяя с другой сестрой скромную комнату, она начинала свой рабочий дань в 7 час. утра и часто не ложилась всю ночь подряд, когда надо было перевязать вновь прибывших раненых. Иногда солдаты отказывались верить, что сестра, которая так нежно и терпеливо за ними ухаживала, была родною сестрой Государя и дочерью Императора Александра III.
Ее личная жизнь сложилась несчастливо. Она была первым браком замужем за принцем Петром Александровичем Олденбургским, человеком с нею совершенно различным по характеру. Великая Княгиня Ольга Александровна любила искренно и глубоко одного офицера Кирасирского её Величества полка по фамилии Куликовский. Мы все надеялись, что Государь разрешит ей развестись с мужем и вступить в новый брак. Я был очень рад, когда однажды, ясным зимним утром в 1916 году мы сопровождали Ольгу Александровну и ротмистра Куликовского в маленькую церковь в пригороде Киева. Это была очень скромная, почти тайная от всех свадьба: невеста, жених, вдовствующая Императрица, я, две сестры из общины Красного Креста и четыре офицера Ахтырского гусарского полка, шефом которого состояла Великая Княгиня. Служил старенький батюшка. Его слабый голос, казалось, шел не из церкви, а раздавался откуда-то издалека. Все мы были очень довольны. Я никогда не относился к Ольге, как к моей невестке: она была моим дорогим другом, верным товарищем и советчиком, на которого можно было положиться.
6
С наступлением лета 1916 года бодрый дух, царивший на нашем, теперь хорошо снабженным всем необходимым, фронте, был разительным контрастом с настроениями тыла. Армия мечтала о победе над врагом и усматривала осуществление своих стремлений в молниеносном наступлении армий генерала Брусилова. Политиканы же мечтали о революции и смотрели с неудовольствием на постоянные успехи наших войск. Мне приходилось по моей должности сравнительно часто бывать в Петербурге. И я каждый раз возвращался на фронт с подорванными моральными силами и отравленным слухами умом.
Можно было с уверенностью сказать, что в нашем тылу произойдет восстание именно в тот момент, когда армия будет готова нанести врагу решительный удар. Я испытывал страшное раздражение. Я горел желанием отправиться в Ставку и заставить Государя тем или иным способом встряхнуться. Если Государь сам не мог восстановить порядка в тылу, он должен был поручить это какому-нибудь надежному человеку с диктаторскими полномочиями. И я ездил в Ставку. Был там даже пять раз.
И с каждым разом Никки казался мне все более и более озабоченным и все меньше и меньше слушал моих советов да и вообще кого-либо другого. Восторг по поводу успехов Брусилова мало помалу потухал, а взамен на фронт приходили из столицы все более неутешительные вести.
Верховный Главнокомандующий пятнадцатимиллионной армией сидел бледный и молчаливый в своей Ставке, переведенной ранней осенью в Могилев. Докладывая Государю об успехах нашей авиации и наших возможностях бороться с налетами немцев, я замечал, что он только и думал о том, когда же я наконец окончу мою речь и оставлю его в покое, наедине со своими думами. Когда я переменил тему разговора и затронул политическую жизнь в С. Петербурге, в его глазах появились недоверие и холодность. Этого выражения, за всю нашу сорокалетнюю дружбу, я ещё у него никогда не видел.