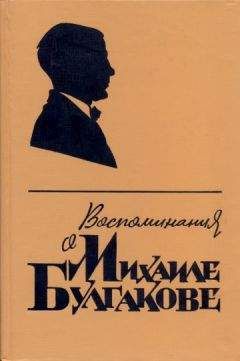Знаю, что имя мое после меня будет счастливее меня (Письмо Жук. [овскому] 1836?).
Властью высшею облечено отныне мое слово».
Булгаков укалывался об эти фразы автора, обжигался их смыслом. Вынужденная литературная работа наполнялась острым личным содержанием. Тема художника, апеллирующего к потомкам, тема поэта, путь которого определен и оправдан «властью высшею», завершит булгаковскую инсценировку «Мертвых душ».
Работа над нею в первом варианте захватила всю вторую половину 1930 года. Она велась в содружестве с В. Г. Сахновским, который оставил подробную запись первых и самых счастливых дней погружения в мир Гоголя.
«В театре стало пусто по-летнему — и наверху, в наших кабинетах, вдруг оказалось просторно, безлюдно и тихо. Можно было ходить и думать, открыв все двери, ходить и знать, что никто не войдет, никто не прервет обсуждения, никто не позвонит по телефону» 6. В эти дни небывалого для театра покоя, вооружившись десятым изданием гоголевских сочинений под редакцией Тихонравова, режиссер, драматург и завлит начали фантазировать и придумывать спектакль. Марков потом уехал, Булгаков и Сахновский остались работать вдвоем. «Я хотел написать, — продолжал режиссер, — что она (поэма Гоголя. — А. С.) поражала нас, Булгакова и меня, потому что мы долго, много месяцев, вместе обдумывали эту поэму и изучали ее, — каждый по-своему, — он писательски, как драматург, я как-то по-иному, — я хотел написать, что она поражала нас, как поэма Данте или рисунки Пиранези…».
Тут важно прежде всего ощущение масштаба задуманного спектакля: «И вот мы читаем вслух и перечитываем про себя шепотом величайшую в мире шестую главу поэмы, от которой, как известно, сам Гоголь был в некотором изумлении. ‹…› Какие странные и страшные выкрики сопровождают мерные строки, и хочется сказать строфы этой главы!» Режиссер и драматург вчитываются в словесную живопись Гоголя и там обнаруживают все тот же небывалый масштаб: рядом «с фламандской точностью описаний комнаты Плюшкина, его знаменитой кучи… рядом с этими мрачными строчками отступлений — потрясающая Пиранезиевская картина, поистине как бы развалины парка, развалины Рима — сад Плюшкина…»
Режиссер упоминает, что Гоголь, сочиняя «Мертвые души» в Италии, перечитывал Данте и Гомера, «медленно шагая по тенистой аллее. Аллее, которая ведет к Кастель-Гондольфо, загородному дворцу папы».
Мысль о том, что «Мертвые души» написаны в Италии, для Булгакова тоже была первообразом, освещавшим будущую пьесу.
«Человек пишет в Италии!
в Риме (?!). Гитары. Солнце.
Макароны» 7.
Тут важны не расхожие признаки Италии — гитара, солнце, макароны, — но сам факт того, что Гоголь пишет о России, глядя на нее «из прекрасного далека». Задумывалась пьеса о художнике, написавшем «Мертвые души». Задумывалась пьеса о том, какую душевную работу надо произвести художнику, решившемуся написать «Мертвые души». В этом был собственно булгаковский поворот темы и возможность создать не сто шестьдесят первую инсценировку, а самостоятельную пьесу со всеми такой пьесе присущими чертами.
В декабре 1932 года, после премьеры спектакля, Булгаков выступит на «товарищеской встрече мхатовцев с драматургами». «Моя основная цель, — передает корреспондент „Советского искусства“ речь драматурга, — было создание из „Мертвых душ“ подлинно театральной пьесы со сквозным действием, с логически развернутой сюжетной интригой, пьесы, которая держала бы зрительный зал в напряжении, повышая его интерес по мере развития спектакля. М. А. Булгаков рассказал о своих творческих приемах использования текста поэмы, превращения его в подлинно драматургическое произведение, а отнюдь не в инсценированную повесть».
«Инсценированная повесть» — это оценка того варианта, который сложился в результате трехлетней работы. Тем важнее восстановить черты первоначального замысла, и прежде всего той роли, которая называлась «Первый». Эта роль должна была определить тональность пьесы, ее лирический строй и внутренний пафос. В первой же строке, в первой ремарке Булгаков маркировал создаваемый мир своим индивидуальным знаком, совпадающим с гоголевским ощущением времени:
«Первый (выходит в плаще на закате солнца). …И я гляжу на Рим в час захождения солнца. Предо мною в сияющей панораме предстал вечный город!»
Излюбленный мотив заката, сумерек, ответственного и переломного времени формирует патетический строй монолога Первого, которому потом в искусстве Булгакова многое откликнется и отзовется. Тут отчетливо слышится мотив города, сверкающего огнями, увиденного с какой-то высокой точки (потом, через несколько лет, этот мотив отзовется в прощальной панораме Москвы, «раскинувшегося за рекой города… с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря»). Тема луны, глядящей на автора «с думою» и притягивающей его; обращение к своему персонажу, исполненное напряженной лирики (финальные фразы монолога: «А ты, мой странный герой!» — откликнутся потом в авторском обращении к Мольеру в повести, написанной вслед за инсценировкой «Мертвых душ»: «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер!»); даже излюбленный Булгаковым образ лампы с абажуром преображается в ту лампу, при свете которой писали римские консулы! Такими «двойными» красками начал Булгаков писать пьесу по мотивам Гоголя.
7 июля 1930 года Сахновский доложил на художественном совете в театре режиссерский план спектакля, сочиненный совместно с Булгаковым. В сочинении этого плана Булгаков участвовал еще не как автор пьесы, но именно как режиссер, помогающий заново организовать «выборки» из гоголевской поэмы, сделанные Д. Смолиным. Однако в режиссерской экспозиции уже отчетливо заявлены не «выборки», но оригинальная пьеса с очень свободным и самостоятельным отношением к первоисточнику.
Заявляя в экспозиции линию Чтеца, Сахновский трактует его как основного, вслед за Чичиковым, героя пьесы. Главная задача, которая ложится на этот персонаж, заключается в том, чтобы «передать и выявить публике трагический разрыв, существующий между Гоголем, ищущим положительного человека, и Гоголем той действительности, которую он вынужден был осмеять и показать в таких разрушительных красках».
Сахновский осторожно, с оговорками, приоткрывал замысел самостоятельной пьесы: «Внимательный повторный анализ текста поэмы „Мертвые души“… показал, что при композиции текста спектакля необходимо прибегнуть к переносу текста Гоголя (конечно, соблюдая его всюду точно) из одного места в другое, с тем, чтобы превратить поэму в спектакль, подчиняющийся законам сцены… Для превращения беллетристической поэмы в комедию пришлось прибегнуть в некоторых местах к нарушению хронологической последовательности в поэме, перестановке событий, а также к передаче в некоторых случаях слов одних персонажей другим. Это совершенно необходимо для того, чтобы спектакль явился именно спектаклем, а не иллюстрацией к роману» 8.