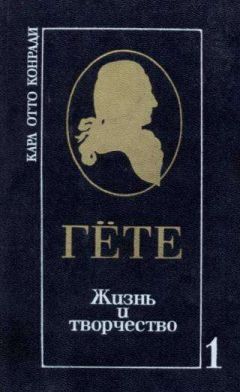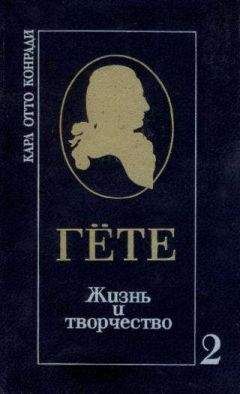То, что само видение Гёте античности, от имени которой он здесь так широковещательно выступает, стоит под знаком «Бури и натиска», разумеется само собой. Его фарс был объявлением войны. Бурный гений вступил в борьбу с нежной добродетельностью рококо. Его письмо кипит презрением: «Уж не знаю, что чему больше приносит вреда: велеречивость Виланда всей этой ерунде или вся эта ерунда велеречивости Виланда. Все это такая чушь и пустота, что просто стыдно […]. Простак и простачки (Виланд и Якоби вдвоем). Виланд и малютки Яки превратились в проституток! Желаю успеха! Их писанина все равно
219
никогда не была мне по нутру» (письмо Кестнеру от 15 сентября 1773 г.).
Между тем Виланд отнесся к этой истории спокойно и независимо. Он даже объявил в своем журнале о появлении фарса. Чтобы отбить атаку, ему хватило одной–единственной остроумной снисходительной реплики. Он порекомендовал вниманию читателя «этот шедевр передержки и юмористического софизма, который из всех возможных точек зрения самым тщательным образом выискивает ту, что являет предмет как бы в кривом зеркале, а потом от всей души развлекается насчет того, что предмет выглядит криво!»
Виланд даже разобрал в своем журнале «Гёца» — вдумчиво, отдавая должное его достоинствам; он отнюдь не стремился отомстить, решительно поставить на место «мужественных молодых гениев», «мятущихся юношей», главой которых он полагал Гёте. Наоборот, Виланд выступал за то, чтобы дать перебеситься этому стаду молодых буйных жеребят и посмотреть потом, что из этого получится. «И насколько я себя знаю, я вполне уверен в том, что в конце концов мы станем самыми добрыми друзьями». Гёте был немало удивлен подобным благородством и начал даже размышлять о том, не слишком ли далеко он зашел в своих атаках. Конечно, он не мог и не хотел отступить от своих эстетических позиций, но от резкости своих насмешек почувствовал себя неуютно.
А если подумать о том, как при первой встрече с Якоби в Дюссельдорфе в июле 1774 года, а позднее с Виландом всякая враждебность тотчас испарилась, то напрашивается мысль, не была ли собственная неуверенность Гёте причиной его столь резких выпадов. Все боевые действия только для того, чтобы доказать себе собственную силу. Когда при личном знакомстве он убедился в том, что жертвы его нападок тоже люди думающие, ищущие, что они высоко ценят непосредственное душевное общение, все его упрямство улетучилось. Именно это произошло, когда в июле 1774 года во время его путешествия по Рейну состоялось первое, столь темпераментное знакомство с Фрицем Якоби: вражда мгновенно превратилась в дружбу. Насколько острой была для Гёте проблема стабилизации собственного «мира», доказывает и тот на первый взгляд несколько странный факт, что, едва познакомившись с Бетти, женой Фрица Якоби, во Франкфурте летом 1773 года, Гёте тотчас начал с ней дружескую доверительную переписку. Ни
220
следа громогласно заявленного отвращения к Якоби; одна только радость от сознания того, что есть человек, с которым можно говорить по душам, ощущается в этих письмах. Возможности дружеского общения молодой Гёте не упускал нигде; «злой человек с добрым сердцем», как писала ему Бетти Якоби, намекая на эти события (письмо к Гёте от 6 ноября 1773 г.).
Кое–что из того, о чем здесь говорилось, происходило в 1773—1774 годах, много времени спустя после возвращения из Вецлара и посещения Эренбрейтштейна. Когда в сентябре 1772 года Гёте возвратился во Франкфурт, его необычайная одаренность была известна только друзьям и знакомым. Осенью 1772 года Кестнер не имел возможности представить Гёте своему корреспонденту Хеннингсу иначе чем «некий Гёте из Франкфурта». Слава пришла летом 1773 года, когда стало известно, кто является автором изданной анонимно драмы «Гец фон Берлихинген».
Однако Гёте вовсе не был преисполнен довольства собой. В некоторых фрагментах его писем этого времени явственно слышатся сомнения. Свою адвокатскую практику он продолжал не слишком усердно, скорее по обязанности, так как, в общем, от нее не зависел. В художественной сфере экспериментировал в разных направлениях. Когда в декабре 1772 года Гёте четыре недели провел в Дармштадте, все думали, что ко всему остальному он решил стать художником. «И мы все это очень поддерживали» (Каролина Флахсланд Гердеру, 5 декабря 1772 г.). В январе 1773 года сам Гёте сообщил Кестнеру, что занят сейчас в основном рисованием и особенно удачно получаются портреты.
Теперь он был во Франкфурте и предоставлен самому себе. «Я один, один и с каждым днем все более одинок», — писал он Софи Ларош (12 мая 1773 г.). Глубокой раной оставалось и крушение его любви к Лотте в Вецларе. Правда, переработка «Готфрида» в «Гёца» шла очень легко, но еще в августе 1773 года, удивляясь своей внезапной популярности, Гёте сообщал Кестнеру о том, что вряд ли в ближайшее время он сможет написать нечто такое, что заинтересует публику. «Между тем я продолжаю работать. Посмотрим, намерен ли ход вещей сделать из меня что–нибудь стоящее». Горестное одиночество имело свои причины. В апреле он еще довольно долго пробыл в Дармштадте, однако круг постепенно распадался. В начале мая после свадьбы с Гердером Каролина уехала в Бюкебург.
221
Мерк вместе с ландграфиней и принцессами отправился в путешествие, в Россию. Елена фон Руссильон, «Урания», 21 апреля умерла. И Кестнеры недолго оставались в близком Вецларе, местом их службы стал Ганновер.
В ноябре 1773 года вышла замуж и покинула Франкфурт сестра Гёте Корнелия, с которой он был связан узами тесной доверительной дружбы. Ее мужем стал юрист Иоганн Георг Шлоссер. Когда–то, в дни весенней ярмарки 1766 года, он жил в Лейпциге у Шёнкопфа и подружился с Гёте. Сначала в Карлсруэ, потом в Эммендингене в Бадене в должности старшего судьи он пытался на положении высокого чиновника администрации содействовать осуществлению реформ прежде всего для крестьян, а также в сфере просвещения. В преддверии расставания с Корнелией во Франкфурте Гёте писал Кестнеру: «Она для меня большая потеря, она одна понимает и терпит мои причуды» (15 сентября 1773 г.). Общность брата и сестры в родительском доме, которая наполняла годы детства и юности, подходила к концу. Корнелия была на год моложе Вольфганга, отец также придавал большое значение ее всестороннему развитию; она изучала языки, занималась музыкой и, как видно, тоже страдала под гнетом этого строгого воспитания. Брат и сестра объединились, стремясь защитить свой собственный маленький мир и пройти совместно «пути и перепутья» ранних лет с большим или меньшим успехом. Из Лейпцига студент Гёте писал сестре длинные письма, полные поучений умудренного опытом человека, из них же она всегда узнавала о его делах и планах. В юные годы она пользовалась его полным душевным доверием, принимала участие во всех поэтических замыслах, знала круг его друзей, которые собирались в Хиршгартене, и, конечно, годы от 1768 до 1773–го были счастливейшими в ее жизни. В браке она не нашла себя. «В ее натуре не было ни капли чувственности». Она родила двух дочерей и умерла вскоре после того, как младшая появилась на свет, — 10 мая 1777 года. Несколько фраз, написанных Гёте госпоже фон Штейн 16 июня 1777 года, говорят о сильнейшем потрясении: «В восемь я вышел в сад, все было хорошо, все было в порядке. Я был один и прогуливался читая. В девять я получил письмо, что моя сестра умерла. Я больше ничего не могу сказать». Эккерман с пометкой «28 марта 1831 года» записал высказывание старого Гёте о рано умершей любимой сестре: «Удивительное она