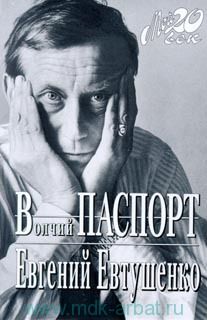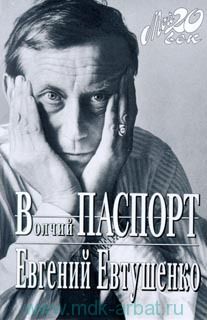12. Оказывается, я краснею
— Старина, оказывается, ты краснеешь… — с невеселым изумлением, но стараясь хоть чуть-чуть развеселить себя и меня, воскликнул Эльдар Рязанов. Дело было в 1969 году, когда он пригласил меня попробоваться на роль Сирано де Бержерака в своем новом фильме.
То, что я непоправимо краснею, выявилось, когда на репетициях моя партнерша Людмила Савельева гладила меня по руке, на которой якобы красовались шрамы прославленного забияки-дуэлянта. Все репетиции в мосфильмовских комнатах с треском проваливались, я был зажат, стреножен. Я не привык иметь дело с партнерами, ибо чтение стихов на эстраде — это работа одинокая. Рязанов совсем поскучнел, скис и потерял надежду. Я взмолился, чтобы он меня отпустил, и Рязанов дал мне последний шанс — снять на кинопленку сцену в трактире, сделав мне полный грим и одев меня в игровой костюм. Я хорошо выбрал нос — не клоунский, а орлиный — красивый, но просто слишком большой. Когда я впервые встал в мушкетерских ботфортах на землю напротив кинокамеры и она заработала, я вдруг впервые ощутил легкость, свободу, стал себя вести естественно, будто в какой-то другой жизни был дуэлянтом точно в таких ботфортах. Рязанов расцеловал меня — в его глазах воскресли огоньки азарта. j
— Старина, я, кажется, не обманулся…
13. Всемирная слава в консервной банке
По реке Витим, ставшей прообразом шишковской Угрюм-реки, шел карбас, сделанный, как много лет назад, без единого гвоздя. Карбас назывался «Чалдон», и на его борту была следующая стихотворная надпись:
Наш «Чалдон», лети над шиверами.
Мы самих себя послали к Маме.
Без девиц, на аржаных краюхах наш девиз — вперед на оплеухах!
Мама — это приток Витима. Оплеухи — это доски, играющие роль дополнительных весел, когда судно попадает на мель.
В ту самую ночь, когда американский «Аполлон» прилунился, мы с корешами сели на мель в районе Маректинской шиверы и слезали с камня при помощи «ворота». Команда у нас была лихая — все старые друзья, понимавшие друг друга с полуслова. Рязанов меня отпустил в это путешествие, потому что для него самого ситуация была еще не вполне ясна: хотя я ему наконец-то понравился, у меня были серьезные соперники, тоже претендовавшие на роль Сирано: Смоктуновский, Кваша, Миронов, Юрский.
Однажды вечером, когда мы закострились в лесистом ущелье, над нами появился военный вертолет. Ему негде было приземлиться, и рука летчика выбросила из окна консервную банку. В ней была телеграмма: «Поздравляю. Худсовет студии единогласно утвердил вас на роль Сирано. Немедленно вылетайте для уроков фехтования и верховой езды. Ваш Рязанов».
Мои товарищи по путешествию устроили мне прощальный ужин, выпили за мою всемирную славу как киноактера, а наутро я пошел пешком до ближайшей дороги. До нее было не так уж далеко — километров семьдесят, но путь пролегал через таежные урманы. Я шел почти двое суток, встретив по пути медведицу с медвежонком, слава Богу, пожалевшую меня, и переночевав в недостроенном доме лесника, пахнущем медовым золотом стружек, рассыпанных по полу. Затем нужно было лететь часа три на вертолете до Улан-Удэ, затем оттуда часа два на «яке» до Иркутска, затем шесть часов на «иле» до Москвы.
Через две недели после возвращения в Москву и после первых моих уроков фехтования и верховой езды мы с Эльдаром Рязановым стояли во дворе «Мосфильма» и смотрели, как пламя костра доглатывает груду деревянных алебард, сделанных для нашего, теперь уже запрещенного фильма. Рязанова вызвал тогдашний главный киноначальник Баскаков и спросил:
— Это что, правда, что ты собираешься снимать Евтушенко в роли Сирано?
— Правда, — ответил Рязанов. — Его единогласно утвердил худсовет студии.
— А ты знаешь, что он подписал протест против нашей братской помощи Чехословакии?
— Знаю. Ну и что? Какое отношение имеет ко всему этому наш фильм?
— Прямое. Ты забыл, что в койце драмы Ростана Сирано убивают наемные убийцы? Это же будет прямым образом накладываться на самого Евтушенко и создавать ненужный ажиотаж. Зачем нашему кинематографу нужно создавать ореол жертвенности вокруг этого поэта? Короче говоря, бери любого человека на эту роль, хоть с улицы, но только не Евтушенко.
Рязанов отказался, хотя я пытался его уговорить.
— Старина, дело тут не в политике и не в том, что я хочу выглядеть шибко порядочным, — сказал он мне. — Я поступаю так потому, что сейчас не вижу в этом фильме никого другого.
Он был не прав. Сыграть Сирано мог и кто-то другой. Но Рязанов принадлежит к лучшей части человечества — к тем, кто органически не способен на предательство. Такие люди драгоценны потому, что порядочность — их главная политика. Благодаря таким людям я до сих пор не потерял веры ни в Родину, ни в человечество, ни в искусство. На прощание Рязанов подарил мне ботфорты Сирано де Бержерака, сшитые по моей мерке. А вдруг они еще пригодятся?
Тогда же, в 1969 году, я написал стихи, посвященные Эльдару Рязанову. О том, чтобы напечатать их, и речи быть не могло. Мне удалось только созорничать однажды, опубликовав их как якобы монолог американского киноактера Юджина Шампа, снятого с роли Сирано за его протест против войны во Вьетнаме. Одна певица, уехавшая на Запад, которая в своих воспоминаниях с обескураживающей искренностью призналась, что давала взятки, возмущалась тем, что я напечатал «Прощание с Сирано» в столь, по ее мнению, цинично замаскированном виде. А в каком же виде его можно было напечатать? Значит, тогда и Лермонтов был циником, печатая русские жалобы под видом «жалоб турка»?
Вот таким стихотворение было в оригинале:
ПРОЩАНИЕ С СИРАНО
Посвящается Э. Рязанову
Прощай, Сирано!
В павильоне все лампы погашены, и только ботфорты твои,
как насмешка, остались в багажнике.
Прощай, Сирано,
мой далекий двойник, мой собрат.
Бургундского нет в магазинах.
«Сучка» на прощанье.
Тебя мне в кино запретили сыграть, а в жизни меня мне играть запрещают.
И лошадь уводят,
и шляпа, плюмажем дерзя, как черный цветок,
на погибший сценарий возложена, и тысяча маленьких скользких «нельзя» сливаются в «жить невозможно!».
Не стоит просить ни о чем кардинальскую ложу.
Сдирают мой грим,
а хотели, наверно бы, кожу.
Товарищ Баскаков с лицом питекантропа, как евнух, глядящий испито и каменно, картину прикрыл,
распустил киногруппу.
Живейшая бдительность свойственна трупу.
И трупы от злобы на креслах подскакивают, и трупы, пыхтя, все живое закапывают.
Россия когда-то была под баскаками, теперь —
под баскаковыми.
Они бы хотели,
бессильно лютуя,
а литературу, но цену бездарностям им не завысить, и главные роли от них не зависят.
Смотрите —
трагически и озорно играю я все-таки роль Сирано!
Самою природой изобретен я был, как гуляка, поэт и бретер.
Меня вам не снять с этой роли.
А сердце большое в наш век так смешно,
Как нос уморительный Сирано, и в роль я вхожу поневоле.
Посылка!
Рипост не бросает вас в дрожь? Пусть будет вам это уроком.
Вам кажется тот, кто на вас непохож,
уродом?
Посылка!
Но шпага увязла опять в субстанции слишком пахучей.
Не слишком приятно всю жизнь фехтовать с навозною кучей.
Сыграть Сирано я мечтал еще в детстве, наивный задрипанный шкет, и вот на меня,
как положено в действии, наемные руки наводят мушкет.
И только когда я дышать перестану и станет мне все навсегда все равно,
Россия поймет, что ее, как Роксану, любил я,
непонятый, как Сирано…
В декабре 1962 года в Доме приемов на Ленинских горах была «первая историческая встреча с интеллигенцией». В фойе были с одной стороны развешаны картины Непринцева, Лактионова, Герасимова, Серова, с другой стороны — картины так называемых абстракционистов, которые так возмутили Хрущева в Манеже. Мы вошли в большой банкетный зал, где персон на четыреста, несмотря на утреннее время, был сервирован роскошный обед, да еще с вином.
— Ну а теперь, — сказал Хрущев, — давайте-ка с вами посидим, откушаем, выпьем, чтобы во время дискуссии не быть слишком злыми.
Посмеялись, приступили к вину и закускам.
Кто-то мне шепнул:
— Кажется, пронесло.
Но эта надежда не оправдалась. Когда обед был закончен, искусствоведы в штатском начали одну за другой вносить скульптуры Эрнста Неизвестного и ставить их прямо на скатерть с жирными пятнами от шашлыков. Иезуитское лицо Суслова выглядывало из-за скульптуры лагерного мальчика с мышкой, которую он бережно держал в ладонях, как свою единственную предсмертную радость.