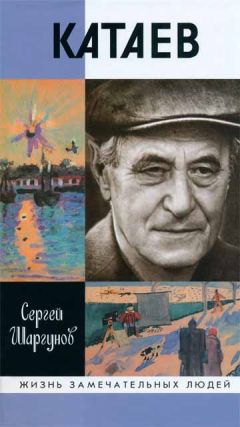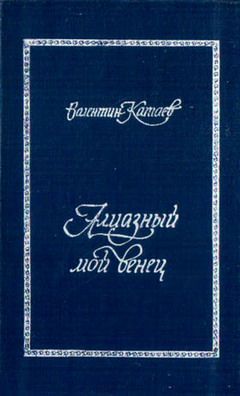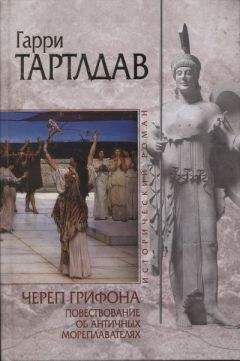За несколько номеров до Катаева в «Красной нови» вышла повесть Владимира Лидина «Растрата Глотова» о кассире-воре, проигравшемся на бегах и увлекшемся кокоткой.
Герои «Растратчиков» не злодеи, а самые обычные служащие. Автор поместил их себе под нос, на Мясницкую, называвшуюся тогда Первомайской («Видно, ей на роду написано быть Мясницкой, и другое, хотя бы и самое замечательно лучезарное, название к ней вряд ли пристанет»), в здание, где пять из шести контор растранжирили деньги, и теперь как будто фатум требовал от оставшегося учреждения не упрямиться. Главбух Филипп Степанович Прохоров и кассир Ванечка Клюквин, как по велению нечистой силы, бросились в пьяный пляс по стране, соря чужими зарплатами.
Прохорову захотелось покутить, подражая своему дореволюционному хозяину, главе фирмы старику Саббакину, а на растерянного Ванечку главбух так увлекательно задышал алкоголем и раками, что тот «только в первый раз в жизни вдруг понял, что такое настоящий человек», но самой сильной и скрытой пружиной сюжета была непроговариваемая чертовщина. В сцене грехопадения краски говорили сами за себя — двое, скотски захмелев, неслись на извозчике в ночь неизвестности среди адского антуража: «Черный город расползался вокруг гадюками блеска. Фосфорные капли с треском падали с трамвайных проводов».
Характерно, что почти целиком это «пьяная повесть» — здесь не только общаются заплетающимся языком, но и видят все с пьяных глаз: диким, дивным, двоящимся и уплывающим. Но притом каждая фраза отделана. «Поработал над повестью основательно», — признавал Катаев. Он вволю поупражнялся в любимом — в изображении (метафоричном и пестром), будь то петербургская архитектура или избы среди снега. «Перебивочные кадры» не мешают восприятию сюжета, а наоборот, насыщают его, создавая впечатление цветного фильма.
Прохоров и Ванечка впутались по пути во множество грязноватых приключений с тяжелыми похмельными отбивками, но, несмотря на уничижительные эпитеты, которыми автор награждал «соблазны», замени он язвительные слова на ласковые — «Растратчики» заиграли бы заманчивыми красками. Катаев даже будто досадовал на то, как его персонажи не умеют оттянуться в свое удовольствие (ближе к финалу их случайный попутчик ухоженный «жуир» инженер Шольте заметил, что «с такой суммой, хе-хе, за границу можно катнуть, половину земного шара обследовать», ну хотя бы съездить в Крым и на Кавказ).
Катаев писал из своего опыта и с каким бы ехидством ни осуждал кутеж (рестораны, музыка, рулетка, женщины), осудить мог бы и себя, разумеется, неплохо покутившего и на заработанное от «Растратчиков». «Хотите поедемте сейчас в казино — я там бываю часто», — предложил он главе советского правительства Алексею Рыкову и другим важным людям на обсуждении пьесы «Растратчики» 16 апреля 1928 года. Позднее, в послевоенные годы, наставляя студентов Литинститута, он шокировал их: «Напишете книгу — пойдете в ресторан».
А вот уместный именно тут отрывок из письма Зощенко Олеше 1930 года: «Засим — прибыл в новом костюме — конь (прозвище Катаева. — С. Ш.). В любом кармане у него деньги. Он усталой ручкой выгребает оттуда червонцы и кидает куда попало… Приехал в Европейку, остановился в 8 а. Сразу потребовал черноморских устриц. Жрет их ежедневно. Дела вокруг немыслимые. Левушка Никулин со своим членом остановился рядом в роскошных апартаментах. Господин Сметанич[57] почувствовал трубные звуки разгула победителей жизни и ринулся на все прелести существования… Конь от жирной пищи вовсе очумел. И от прежних девушек воротит морду… он увел из чьих-то конюшен прелестную девушку… Словом этот драматург и автор нашумевшей оперы “Универмаг”, этот жуткий Катаев такую отхватил девушку, что народ ахнул. Девушка по всем видимостям принадлежит коню. Левушка колбасится не меньше коня. Вообще дым стоит коромыслом. А обо мне ведайте, что жизнь эта мне недорога. Я не вхож в ихние дела».
Нравы этой компании понятны и из заграничного письма Никулина 1929 года, адресованного сразу Катаеву и Олеше:
«Дорогие классики!
В капищах и вертепах пресыщенной и развращенной буржуазии я, как видите, не забываю друзей. Распутный Валя надругался над моими чувствами к одной прелестной даме. Когда я вернусь, прольется кровь…»
При этом с циничной галантностью эпистола завершалась словами: «Привет Анне Сергеевне, разумеется». Да уж, непростой муженек достался мадам Мухе…
(Никулин обещал приятелям «два роскошных галстука из Севильи непостижимой расцветки совершенно ударного типа» и убежденно предвещал: «В том случае если я вывезу машину — Вы начнете новую и интересную жизнь»[58].)
В разговоре с литератором Борисом Галановым Катаев откровенничал: «Я, знаете ли, побывал и в шкуре бухгалтера Прохорова. А друга своего Юру Олешу представил себе в роли кассира Ванечки Клюквина. На нас моделировал. Что бы мы делали, окажись у нас в кармане казенные деньги?»[59]
«Читая иные страницы повести, не можешь отделаться от странного ощущения, словно перед тобою некое художественное “приглашение к растрате”, — уже в 1974-м писал критик Олег Михайлов. — Будто бы нечто потаенное, отданное чужим, выдуманным судьбам, получило тем самым, не стыдясь себя, возможность свободно выйти наружу».
«Растратчики» — повесть сатиричная, но совсем не веселая, безысходная. Стеклянная трезвость проскальзывающих там и тут добросовестных тружеников, увы, не похожа на альтернативу. В деревне погано и бедно, — видит Ванечка. Не лучше в провинциальных городах. Филипп Степанович непрестанно тоскует по торговому дому «Саббакин и сын» и кричит, высунувшись из автомобиля: «Даешь государя императора!», отправляясь в особняк к «высшему свету».
Это вообще кульминационная сцена — приход героев в «салон», где собрались «настоящие бывшие»: сановники и баронессы, перед тем заработавшие на съемках фильма «Николай кровавый».
Катаев языком фельетона безжалостно выписывал офицеров и генералов, княжну-черкешенку, по ее словам, из-за болезни матери и эмиграции отца вынужденную заниматься проституцией, к массовке был присобачен «даже один митрополит». Катаев с каким-то садомазохистским удовольствием показывал нелепость раздавленных, некогда благополучных, уверенных в себе людей. Они робко и тревожно согласились показаться в прежнем виде, но постепенно приободрялись. «Думали, что как только наденут свои старорежимные формы, так их сейчас же — бац за заднюю часть и в конверт».
Как из сновидения, появлялся двойник расстрелянного царя. «Он отставил вбок ногу, мешковато осунулся, слегка обдернул гимнастерку штиглицовского материала цвета хаки-шанжан, лучисто улыбаясь, потрогал двумя пальцами, сложенными словно бы для присяги, рыжий ус и затем слабеньким голоском произнес, несколько заикаясь, по-кавалерийски: “Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть”». Эпитет «лучистый» Катаев применял к царю не в последний раз… Но царь мертв. Так же и десант, освобождавший Одессу от большевиков, — это сновидение приговоренных. И ведь автор сам двойник — расстрелянного себя.