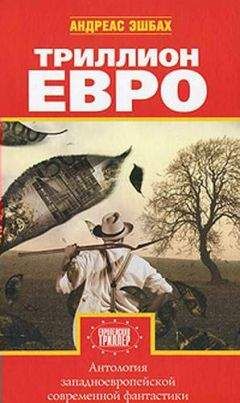Богатырская симфония Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова — разве это не было победой тех идей, которые с юных лет воодушевляли Балакирева!
Глава двадцать пятая
НОВЫЕ ЗАБОТЫ И НОВЫЕ РАДОСТИ
О России семидесятых годов хорошо говорит Бородин в одном из своих писем к Стасову. Это письмо он написал из села Соколова Костромской губернии, где проводил лето: «Усадьба, приютившая меня, — обломок дореформенной Руси, остаток прежного величия помещичьего житья-бытья — все это поразвалилось, покосилось, подгнило, позапакостилось. Дорожки в саду поросли травою, кусты заросли неправильно, пустив побеги по неуказанным местам; беседки «понасупились», и «веселье» в них «призатихнуло». На стенах висят почерневшие портреты бывших владетелей усадьбы — свидетелей и участников этого «веселья»; висят немым укором прошлому, в брыжжах, в париках, в необъятных галстуках, с чудовищными перстнями на пальцах и золотыми табакерками в руках или с толстыми тростями, длинными, украшенными затейливыми набалдашниками. Висят они, загаженные мухами, и глядят как-то хмуро и недовольно. Да и чем быть довольным-то? Вместо прежних «стриженых девок», всяких Палашек да Малашек — босоногих дворовых девчонок, корпящих за шитьем ненужных барских тряпок, — в тех же хоромах сидят теперь другие «стриженые девки», — в Катковском смысле «стриженые» — сами барышни, и тоже корпят, но не над тряпками, а над алгеброй, зубря к экзамену для получения степени «домашней наставницы», той самой «домашней наставницы», которую прежде даже не сажали за стол с собой. Да, tèmpora mutantur, времена переходчивы! И в храминах, составлявших гордость российского дворянского рода, ютятся постояльцы, с позволения сказать, — профессора, разночинцы и даже хуже. К сожалению, тяжелая рука времени налегла не на одно это в усадьбе, но и на барские клавесины — дерево покоробилось, косточки пожелтели, струны позаржавели, молоточки поломались. Вместо чинных менуэтов и всякой иной музыки «в париках и фижмах», — фортепьяны сделали непривычное усилие передать современное музыкальное бесчинство, — захрипели и замолкли, оказавшись вполне несостоятельными».
В эти годы — во времена «хождения в народ», «домашних наставниц» и профессоров-разночинцев — в жизнь Бородина, и без того заполненную до отказа трудом и заботами, вошло еще одно дело — борьба за высшую женскую школу.
Бородин и прежде был убежденным сторонником женского образования. Несмотря на то, что по уставу Медико-хирургической академии в нее не разрешалось принимать женщин, несмотря на строгий приказ военного министра о недопущении их на лекции и на практические занятия, — в лаборатории Бородина они находили дружеский прием. И это тогда, когда в гостиных еще шли глубокомысленные споры о том, способна ли женщина заниматься науками и достаточен ли для этого объем ее мозга! В газетах появлялись статьи под такими названиями: «Могут ли женщины быть врачами», «Могут ли девицы посещать публичные лекции по физиологии и прилично ли это?»
Некоторые находили, что женщине нельзя быть медиком, потому что у нее дрогнет рука при операции. Были и такие, которые считали, что она и вообще не может и не должна заниматься тем трудом, какой обычно возлагается на представителей «сильного пола». В виде исключения женщинам — так и быть! — благосклонно разрешали быть булочницами, ибо «всякая стряпня противна природе мужчин», или советовали поступать на работу к портным, башмачникам, шляпочникам, перчаточникам.
Когда жена химика Энгельгардта поступила в книжный магазин, это вызвало смятение в артиллерийской бригаде, где служил ее муж. Некоторые офицеры настаивали даже на том, чтобы просить его уйти в отставку.
Нашим теперешним женщинам — врачам и химикам, геологам и архитекторам — показались бы странными и бессмысленными доводы противников женского образования, женской самостоятельности.
Никто из нас не удивляется, видя женщину за кассой. Смешно было бы удивляться! А в 1863 году автор «Внутреннего обозрения» в журнале «Современник» называл «великим делом в общественной жизни» то, что на Московско-Нижегородской железной дороге женщину приняли на службу кассиром. Автор хвалил директора дороги за то, что тот не побоялся поступить «вопреки общему предрассудку относительно женщин».
В светском обществе называли «синим чулком» каждую девушку, которая позволяла себе читать газеты и ходить без провожатых в музей.
Но, несмотря на все предрассудки и преграды, сотни девушек упорно стремились к труду и к образованию. Это давалось им нелегко. Они ссорились с родителями и уходили из дому, они фиктивно выходили замуж, чтобы обрести таким способом хоть какую-нибудь самостоятельность.
Они хотели учиться, чтобы, получив образование, приносить больше пользы народу. Вся передовая молодежь того времени только и думала о том, чтобы послужить народу.
Девушек не принимали в высшие учебные заведения. Они тайком пробирались в анатомический театр, чтобы поработать у профессора Грубера, они проникали «контрабандой» на лекции Сеченова и Боткина, они работали в лаборатории у Бородина.
Старик Грубер был суровый экзаменатор. Но и он совершенно оттаял, когда его ученицы прекрасно сдали экзамен, хотя он задавал им вопросы по-латыни.
Об этом экзамене узнали из газет власти. Военный министр потребовал объяснений от главного военно-медицинского инспектора Козлова: кем и когда было разрешено профессору Груберу допускать женщин к занятиям и даже экзаменовать их, и притом не отдельно, а вместе со студентами?
Козлов в свое оправдание указал, что для женщин отведена особая препаровочная, что они занимаются отдельно от студентов, а к лекциям и вообще не допускаются. Он добавлял, что счел бы недостойным скрыть от военного министра, что пять женщин занимаются химией в совершенно отдельном помещении химической лаборатории.
Дома — на родине — доступ к науке был затруднен. И вот женщины начинают уезжать одна за другой за границу. Их вдохновил пример Сусловой, которая окончила медицинский факультет в Цюрихе и стала первой в России женщиной-врачом. К таким студенткам правительство относилось с особым' недоверием, подозревая, что они в Швейцарии набираются «вредного духа» в кружках политических эмигрантов. Когда Суслова вернулась домой, ее сразу же взяли под надзор полиции.
Невесело было русским женщинам покидать родину и уезжать в далекую Швейцарию учиться. Они всячески добивались если не доступа в университеты, то хотя бы открытия особых женских курсов.