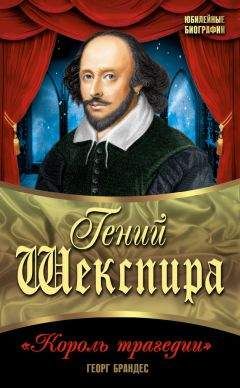Ритм достаточно гибкий: они усвоили уроки Шекспира, но в нем отсутствует опасная усложненность. Какой публике понравится в удивлении морщить лоб, услышав непонятные слова или сложные предложения. Сюжет предельно прост, мораль из самых доходчивых. И где им брать тему, которая требует небанального нравственного подхода, они старательно избегают опасности. Так, в «Короле и не короле» брат с сестрой, похоже, совершают инцест. В конце открывается, что на самом деле они не брат с сестрой. В такой пьесе, как «Как жаль ее развратницей назвать» Джона Форда, которая была написана в правление Карла I, к инцесту подходят честно, без обмана, без трюков. Инцест действительно имеет место, и все сложности, связанные с ним, приводят к трагическому концу. Бомонт и Флетчер не рыли так глубоко. Их цветы не имеют корней; их жизнь эфемерна. Но они кондитеры высокого класса.
Уильям Шекспир никогда не мог противостоять вызову новых веяний. Его «Король Лир» представляет собой попытку доказать, что он может работать в новом виде драмы утонченного ужаса так же хорошо, как в любом другом. Но, будучи гением, он не мог не переступить рамок незамысловатой моды, и его проникновение в человеческую психику приводило к тому, что его герои разрывали путы тесной для них формы: принц Датский становится слишком велик для «Гамлета». Теперь, возможно, к своему стыду, он начал писать пьесы типа Бомонта и Флетчера, и первая из них — «Перикл, царь Тирский», одна из самых плохих пьес, когда-либо написанных им. Она появилась в 1623 году в Фолио, и очень немногие поклонники выражали недовольство по этому поводу. Что касается этой пьесы, в ней много неясного.
Почему Шекспир, человек состоятельный и удалившийся от театра, взял на себя труд вступить в столь убогое соревнование? Возможно, он сказал Бербеджу в один из своих визитов в Лондон или когда «слуги его величества» отправились в турне по Уорикширу, что в «Исповеди влюбленного» Гауэра есть очень подходящая история и что кому-то следовало бы переделать ее в пьесу. Этим «кем-то» был, возможно, призванный обратно Джордж Уилкинс, и результат оказался таким плачевным, что Уилл, несомненно, вызвался исправить пьесу по мере своих сил. Невозможно поверить, что речи Гауэра, выступающего в роли хора, были написаны Уиллом:
Из праха старый Гауэр сам,
Плоть обретя, явился к вам.
Он песню древности споет
И вас, наверно, развлечет,
Не раз и в пост, и в мясоед,
Под шум пиров или бесед
Та песня для вельмож и дам
Была приятна, как бальзам.
Сюжет перенасыщен событиями: инцест, кораблекрушение, пираты, умершая жена, которая на самом деле не умерла, попытка убийства, чудеса, в ней просто не остается места для развития характера. Рука Шекспира ощущается в диалоге рыбаков, и в сцене в публичном доме («Никогда еще у нас такого не бывало! — говорит сводня. — Только и есть, что три несчастных твари. Ну, куда им управиться! Они так умаялись, что просто никуда не годятся»), и более всего в красоте Марины, потерянного ребенка, родившегося в море:
Она похожа на мою супругу;
Такой была бы дочь моя родная!
Да, те же брови, тот же стройный стан,
Такой же нежно-серебристый голос,
Глаза — сапфиры в дорогой оправе,
Юноны поступь, ласковая речь,
Что собеседникам всегда внушает
Желанье жадное внимать подольше[67].
Но в основном «Перикл» — пьеса, которую трудно читать как часть шекспировского наследия, остается только, пропустив пару стаканчиков, чтобы избавиться от депрессии, забыть о ней.
«Зимняя сказка» гораздо более обнадеживающа. Формально она сделана топорно: в качестве хора выступает Время, которое своим разъяснением пытается заполнить зияющую пустоту в шестнадцать лет между первым и вторым актами. Бен Джонсон, должно быть, застонал (неужели Уилл никогда не научится?), но в ней есть строки вроде следующих:
О, разве я один? Да в этот миг
На белом свете не один счастливец
Дражайшую супругу обнимает,
Не помышляя, что она недавно
Другому отдавалась, что сосед
Шмыгнул к жене, как только муж за двери,
И досыта удил в чужом пруду[68].
Так Леонт, не имея на то никаких причин, убежден, что его лучший друг завел любовные шашни с его женой Гермионой. Трех слов достаточно, чтобы убедиться в аутентичности: слабая препозиция в конце строки (кто отважился бы так закончить строку пятнадцать лет назад?) (в тексте Шекспира: «And his pond fish’d by his next neighbour, by / Sir Smile, his neighbour». — Примеч. перев.) и великолепное Sir Smile. Есть прекрасные сцены с Автоликом (плутом, мошенником), которые появляются слишком поздно, и очаровательная Утрата. Вполне возможно, что мальчик-актер исполнял две роли: роль Утраты и сына Леонта Мамиллия, который рано умирает в пьесе. Тогда перед нами символика воскресения из мертвых для самого Шекспира. Гамнет умер, но любимая дочь занимает его место, и у них одни черты лица.
Вот плач об умершем мальчике в «Цимбелине», и он очень красив:
Для тебя не страшен зной,
Вьюги зимние и снег,
Ты окончил путь земной
И обрел покой навек.
Дева с пламенем в очах
Или трубочист — все прах[69].
Но мальчик только спит и пробуждается в виде еще одной потерянной дочери — Имогены. Сама пьеса — самая любопытная из шекспировских смесей. Перед нами древняя Британия, в которую вторглись римляне, но сам Рим — столица Италии эпохи Возрождения. В пьесе есть Постум, но есть также Якимо, а Филарио наводит мост через пропасть времен. Основа сюжета та же, что у Бомонта и Флетчера: муж, уверенный в добродетели своей жены и, кажется, теряющий уверенность, когда претендент его обманывает; он наказывает жену самым жестоким образом. Герои «Хроник» Холиншеда и рассказов Боккаччо образуют весьма причудливую компанию. Здесь снова, как в «Перикле», Шекспир явно работает на пару с кем-то. Почему? Неужели он не мог создать ничего лучшего в своей полуотставке?
«Буря», хоть и написана в этой новой романтически-сказочной манере, наиболее шекспировское произведение, и, хотя предстояло появиться еще одной пьесе, существует уверенность, что именно она является лебединой песней Лебедя с Эйвона. Старый волшебник Просперо является также старым занудой, и иногда он, кажется, понимает это, но Миранда — самая восхитительная из всех последних героинь Шекспира. Опасно персонифицировать подсознание в Калибане, а постоянно ускользающее поэтическое воображение в Ариэле, и даже Калибан тронут лирическим волшебством последнего всплеска таланта Шекспира: