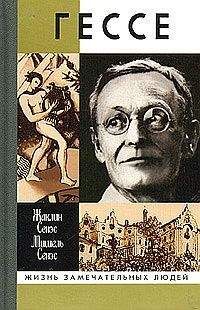Тяжело переживая несчастья родной земли, Гессе готов ей служить, однако не в любой форме: «Государство использует своих граждан удивительным образом. Поэтов обязывают встать под ружье, профессора должны рыть окопы, коммерсанты-евреи — заниматься государственными делами, юристы — вопросами прессы… Государство, наше, по крайней мере, привыкло # тому, что люди, лишенные талантов, торопятся поступить на службу, чтобы оно могло ими распоряжаться по своему усмотрению. Единственное, чем я отличаюсь от массы… то, что я знаю, на что способен, обладая тем сознанием, которым обладаю…» После этого заявления разразился скандал. Писателя спешат обвинить в дезертирстве и затворничестве в башне из слоновой кости, в то время как Германия пылает. Гессе отвергает эти обвинения: «Если я прислушаюсь к этим призывам, я потеряюсь среди дилетантов и буду осуществлять деятельность, мне чуждую, оставив мое истинное призвание… я вижу здесь лишь перспективу своего рода самоубийства». Об этом конфликте личного долга и социального самосознания он пишет в «Возвращении Заратустры».
Совместно с Рихардом Вольтереком Гессе основывает политиколитературный ежемесячник под латинским названием «Vivos voco», таящим в себе потребность ответить на вопрос. Он обращается к молодежи с интонацией, определенной собственным опытом пережитого. Она обладает особым оттенком, отчетливо выражающим выстраданное им мироощущение. Не существовало отдыха нигде — ни на кладбище, ни у Господа. Не существовало магии, способной разбить вечную цепь рождений, бесконечное дыхание божественного. Но было иное успокоение, чтобы найти самое сокровенное в себе. Оно состояло в том, чтобы не мешать себе идти, не защищаться, быть счастливым умереть настолько же, насколько жить.
Когда в том же 1919 году разойдутся первые экземпляры книги таинственного Синклера «Демиан, или История юности», молодежь тотчас узнает почерк Гессе. Появление «Демиа-на», затронувшего нерв времени и оказавшего сильное влияние на молодое поколение, было шоком. Молодежь восприняла Синклера как своего ровесника, одаренного тонким умом и глубокой проницательностью, тогда как за этим образом скрывался человек сорока двух лет, который дал своим читателям ту духовную информацию, в которой они нуждались.
Рисунки пером и карикатуры сохранили предполагаемые черты этого вымышленного персонажа, и, несмотря на грубость и беглость набросков, в них проступает образ самого Гессе: его острые уши, гладкий подбородок, внимательный взгляд.
В февраля 1919 года он в очередной раз приехал навестить Мию. Теперь ей немного лучше, но она не спит без лекарств. Что делать? «Мы решили, — пишет Герман своему другу Георгу Рейнхарту, — разойтись, с тем чтобы моя жена занималась детьми, а я полностью посвятил себя работе, но вне семьи… В течение этих трех страшных лет мне открылось мое предназначение на земле; мне был указан путь, по которому я должен следовать».
Покинуть Берн, надеть опять свой походный плащ, стать вновь Кнульпом, скитальцем, искать далеко в горах, на юге «келью» — такова его мечта. Он проводил Мию в Базель и сосчитал расходы: «Мне необходимо более 1000 франков в месяц, это соответствует на данный момент 5000 марок; и германское правительство ассигнует мне 150 марок в месяц». Он уезжает с почти пустым кошельком, повернувшись спиной к Германии и Берну. Снова он всматривается в далекий горизонт над Альпами, в долины итальянской Швейцарии, в изгородь сада, увитую глициниями. Тичино ему очень нравится. Там теплые вечера. Уже зреет рябина. Дикие розы пестрят между кустами орешника, черный плющ стелется по стенам. Путешественник задерживается на берегу озера Лугано. Поверхность воды переливается, будя в нем сотни отсветов, заставляя его душу отражать каждую искорку легкой зыби, вызывая прилив бесконечной нежности. Чудо венецианской речи, зеркала великих индийских рек, отражающих изменчивые очертания сущего, текущая и застывшая жизнь. Он представляет, как все это выглядело бы на акварели.
Из сада Гилярди можно было видеть Италию; над Агрой, за озером, раскинулся район Варез. Гессе подгоняет светлая и созидательная радость свободы. 25 мая 1919 года он пишет своему другу Герману Миссенхартеру: «Нет, нет, писать по заказу, к определенному числу, никогда более, даже если вы оставите меня умирать с голоду». И 14 июня — Иоганну Вильгельму Михлону: «Я далеко от мира и от Берна, посреди тропической жары; я с трудом заставляю себя читать даже газеты. Я пытаюсь пережить крах в моей личной жизни, выздороветь и почувствовать то, что сейчас чувствует вся Германия: принять то, что происходит, не перекладывать на чужие плечи ответственности, но платить за нее и говорить судьбе „да“».
В Тичино царят суматоха и веселье, там отштукатурены дома, там каменные лестницы и барочные алтари в светлых кампанильях, которые загораются отблесками заката на склоне каждого дня, контрастируя с темнеющими кипарисами. Пройдя горной дорогой, полюбовавшись живописным холмом Сан-Аббондио и его церковью, колокольня которой возвышалась над тисовой аллеей, будто в бесконечной молитве подражая утонченному благородству природных форм, путешественник остановился перед селением Монтаньола.
Герману показалось, что это имя давно звало его. Быть может, зов, который он теперь услышал, раздавался очень далеко, за деревней, которая была у него перед глазами. И решил здесь остаться. Случайно он набрел на фантастический дворец, построенный Агостино Камуцци, который после наполеоновских войн отправился в Россию и стал незаурядным архитектором. «Десятки раз я писал этот дом красками и рисовал, вникая в его затейливые, причудливые формы, — напишет позже Гессе. — Мое палаццо, подражание охотничьему домику в стиле барокко… это полуторжественное-полупотешное палаццо предстает с разных точек зрения совершенно по-разному. От портала помпезно и театрально идет вниз царственная лестница, она ведет в сад, который, спускаясь множеством террас с лестницами, откосами и стенами, теряется в обрыве, и в саду этом все южные деревья представлены старыми, большими, роскошными экземплярами, вросшими друг в друга, заросшими глициниями и клематисом».
Гессе занял в левом крыле четыре комнаты. Там он мог облокотиться о железную балюстраду флорентийского балкона и рассматривать крыши, рассыпанные ступеньками по склонам поросших лесом холмов, меж которыми то тут, то там возвышались зубчатые колокольни. Легко представить, насколько поэт был очарован этими белыми стенами, теряющимися среди листвы: роскошная природа и не менее роскошная архитектура, облеченная в загадочные формы истории.