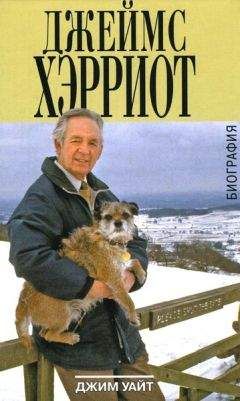Его тревоги не ограничивались лишь самыми близкими родственниками. С тех пор, как он окончил Ветеринарный колледж в 1939 году, он нес на своих плечах тяжкое моральное бремя — считал, что он в огромном долгу перед родителями и никогда не сможет его вернуть. С самых первых дней работы ветеринаром, когда он еле-еле сводил концы с концами, он регулярно посылал деньги родителям, добросовестно писал им каждую неделю и обязательно навещал их несколько раз в год. Его преданность родителям вызывала восхищение, но она имела свою цену. Я хорошо помню день окончания Ветеринарного колледжа при университете Глазго в 1966 году. Приехали мои родители. Они остановились у бабушки на Эннисленд-Роуд. Мы отмечали это радостное событие, и бабушка сказала мне:
— Джим, никогда не забывай, что ты в неоплатном долгу перед своим отцом. Он многим жертвовал ради тебя. Ты всем обязан ему.
Я никогда не забуду выражение отцовского лица и его последующие слова. Он вывел меня в другую комнату.
— Ты ничего мне не должен! Понятно? Абсолютно ничего!
Он даже немного напугал меня своей горячностью. Я всегда знал его как сдержанного и мягкого человека, и мне было странно слышать от него такие откровенные слова. Вообще-то я считал, что очень многим ему обязан, о чем и сказал ему.
Он немного помолчал, глядя мне прямо в глаза.
— Ты ничего мне не должен — ни мне, ни твоей матери!
Больше он не сказал ни слова.
С течением 1960 года болезнь прогрессировала, и я заметил незначительные изменения в поведении отца, когда его самые темные воображаемые страхи стали приобретать угрожающие размеры. Один из худших его страхов вызывала мать: он подозревал, что она интересуется другими мужчинами.
В то время моя мать была привлекательной и — под настроение — кокетливой женщиной, которая, несомненно, вызывала восхищение у многих друзей и знакомых отца. С самой первой встречи отец любил ее до безумия, и я уверен, его выдуманные опасения, что она может оставить его ради другого, в значительной мере способствовали ухудшению его состояния. Я помню его неприкрытую враждебность к любому мужчине, который, по его мнению, оказывал ей слишком много внимания. Он не был похож на человека, которого я знал.
Я учился в шестом классе, и тогда, единственный раз в жизни, между нами возникло отчуждение. Отец постоянно давил на меня, предъявлял мне бесконечные требования: я должен причесываться, каждый день бриться, правильно говорить и в целом вести себя так, как он считает правильным. Я чувствовал, что отец следит за каждым моим шагом, и мне это не нравилось. Напряженные занятия в школе отвлекали меня, и он тоже много работал, поэтому мы ни разу открыто не поссорились, но впервые между нами пролегла пропасть. В то время я этого до конца не осознавал, но передо мной был человек, находившийся на грани нервного истощения, несущий на своих плечах все тревоги мира.
В начале лета 1960 года, когда его состояние ухудшалось с каждым днем, Джоан, по совету врача, отвезла его в Йорк к психиатру. Для нее это было очень тяжелое время. Она жила с мужем, у которого происходило постепенное изменение личности, но она поддерживала его — несмотря на неразумное поведение, совершенно не свойственное человеку, за которого она вышла замуж. Он постоянно к ней придирался — как и ко мне, — но она все стойко сносила. Я восхищался ей. Я был достаточно взрослым, чтобы понять: с моим отцом творится что-то неладное, — и пытался представить, в каком напряжении жила она.
В результате электрошоковой терапии отцу стала изменять память. В день рождения Рози мы всей семьей отправились в Райпон на фильм Уолта Диснея «Белая пустошь». Отцу фильм явно понравился, но когда я упомянул о нем следующим утром за завтраком, он посмотрел на меня словно во сне. Его глаза, казалось, были прикованы к какой-то точке в нескольких километрах у меня за спиной.
— Фильм? Какой фильм? — спросил он.
Он забыл предыдущий вечер.
Предполагали, что депрессия Альфа связана с многократными приступами «мальтийской лихорадки». Он заразился, когда лечил коров с бруцеллезом, распространенным в те дни заболеванием молочного скота, — оно вызывало выкидыши и рождение мертвого плода у коров и телок. Как большинство других ветеринаров, Альф сотни раз извлекал послед из зараженных коров, и после этого у него иногда появлялись симптомы лихорадки и бредового состояния. В этих случаях он несколько дней лежал в постели.
Эта болезнь считается депрессивной, но на Альфа она оказывала противоположное действие. Он становился легкомысленным и счастливым, лежал в постели и отпускал шутки, над которыми сам же дико и истерично хохотал. Через много лет он описал свои симптомы в книге «Все живое». Приступы были короткими, и он быстро возвращался к работе. К счастью, болезнь не оказывала на него длительного воздействия — в отличие от его коллег, у которых развивались симптомы артрита и продолжительной депрессии. Не следует полностью сбрасывать со счетов влияние бруцеллеза на болезнь Альфа, но не только бруцеллез виновен в его тяжелом душевном расстройстве. Причины были намного сложнее.
Несмотря на явное ухудшение после смерти Папаши, он умудрялся скрывать свою депрессию от других, и коллеги по работе не догадывались о его состоянии. Он делал вид, что все в порядке, но утаить проявления болезни от семьи ему удавалось не всегда.
В октябре 1960-го он поехал к матери в Глазго и взял с собой Рози. Когда они были уже недалеко от города, он вдруг схватил дочь за руку и прижал ее к рычагу переключения передач. Ей тогда было всего тринадцать, но она до сих пор помнит напряженное лицо отца, мертвой хваткой вцепившегося в ее руку на подступах к дому матери.
Что это было — нахлынули воспоминания о смерти отца? Или вышел на поверхность врожденный страх перед матерью? Когда он пришел в себя после нервного срыва, то стал гораздо спокойнее относиться к матери, но в тот день около своего старого дома он отчаянно сжимал руку Рози, и в его душе, очевидно, бушевали сильные и разрушительные эмоции.
К чести отца, он, насколько мог, скрывал от нас свои чувства, и в письмах к матери нет и намека на царившее в его душе смятение. Он боролся с болезнью единственным известным ему способом — продолжал работать. Практика процветала, и, благодаря увеличению объемов работы по туберкулинизации, в 1960-е в клинике постоянно трудились три помощника. Однако весной 1961-го двое из них ушли. Это был очень тяжелый период для отца, ему снова пришлось выезжать на ночные вызовы, и он работал больше, чем когда-либо. Возможно, это была своего рода терапия, помогавшая ему отвлечься от тревожных мыслей.