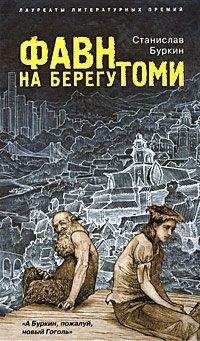И он искал и находил эту красоту живой натуры и наслаждался ею. Она всегда была связана с народным искусством, с богатыми интонациями, будь то вышивка на оленьей малице эвенка, будь то печальная мелодия остяцкой таежной песни, будь то пластика движений молодого татарина, объезжающего дикого коня.
Полтора месяца кочевал Василий Иванович по отдаленным углам Сибири. Он стал худым. На степном солнце и ветру кожа его стала темнее, глаза светлее, движения легче и порывистей. Он был углублен в работу, и живая сила творческого подвига не покидала его ни на минуту.
В этом году пришлось выехать в Москву рано — девочкам нельзя было опаздывать в гимназию. Снова на лошадях до Томска, по ужасной дороге (Василий Иванович не помнил такой за всю свою жизнь). Конец лета был дождливый. А там на пароходе «Казанец» до Тюмени, потом по железной дороге, потом опять на пароходе до Нижнего, и снова железная дорога — до Москвы.
Иркутская жительница Козьмина, встретившая Суриковых на пароходе «Казанец», писала в своих воспоминаниях:
«…Внимание обратил на себя плотный, коренастый человек среднего роста, с типично смуглым лицом сибиряка, с длинными густыми черными волосами, которыми он при разговоре забавно встряхивал. Мы узнали, что это был художник Василий Иванович Суриков, возвращавшийся из Красноярска в Москву.
…Он познакомил нас со своими дочерьми, им было 10–12 лет. Они перед этим потеряли свою мать и были одеты в темные платьица. Это были застенчивые, скромные девочки с печатью сиротства.
— Посмотрите, — говорил Василий Иванович о своих девочках, — это тип будущих сибирячек. Их мать была француженкой, у отца они взяли сибирские черты, и я думаю, что тип коренных сибиряков — смесь русского и монгольского элемента — создается под влиянием культуры, вот именно с такими чертами.
Девочки были очень хорошенькие, смуглые, с тонкими нежными лицами.
— Каждый год, — говорил он, — я стараюсь возить своих девочек в Сибирь, чтоб они научились любить мою родину. Там живет моя мать — старая казачка, и я ее навещаю. И вообще я не могу долго быть вне Сибири. В России я работаю, а в Сибирь езжу отдыхать. Среди ее приволья и тишины я запасаюсь новыми силами для своих работ…»
Под утро над Бутырками снова пронеслась короткая весенняя гроза. Василий Иванович услышал ее, на мгновение проснувшись, но закрылся с головой одеялом и опять уснул. Почувствовал он ее только утром по страшной духоте в спальне. Василий Иванович встал с постели и распахнул окно. Раздувая полосатые паруса штор, в комнату ворвался пахучий солнечный ветер. Чему-то улыбаясь, Василий Иванович бегом вернулся в постель и лег, наслаждаясь запахами влажной земли, что ветер прихватил с огородов за Бутырской заставой.
Спальня была та же, что и семь лет тому назад, когда они жили в этом доме вместе с женой Лилей. Василий Иванович долго колебался — въезжать ему в эту квартиру или нет? Осенью, вернувшись из Сибири, он было поселился на углу Цветного бульвара и Самотечной площади, в доме Торопова, но квартира там была холодна, а мастерская мала: в ней нельзя было уместить картину длиной в восемь и высотой в четыре аршина. Холст пришлось выписывать из Парижа. Выписал грубый, шероховатый, он дольше выдерживает свежесть письма. Сейчас картина стоит натянутая на подрамник, скомпонованная, вычерченная углем, в том же двусветном зале, где когда-то создавалась «Боярыня Морозова»…
Василий Иванович лежал на своей железной кровати, вспоминая вчерашний вечер и первую майскую грозу. Она застала его у выхода из театра Корша. Только что закончился спектакль. Давали «Даму с камелиями», в которой впервые выступала в Москве Элеонора Дузе. Потрясенные, взволнованные москвичи столпились в подъезде, от улицы их отделяла завеса ливня. Мощно раскатывался гром по московским крышам, и сине-зеленые вспышки молнии вырывали из темноты небольшую черную карету с фонарями, запряженную парой терпеливо-понурых лошадей. Карета ожидала актрису. К счастью, гроза быстро отшумела, и Суриков пошел домой пешком.
Под газовыми фонарями черно сверкал булыжник мостовой, пенясь, шумели ручьи вдоль тротуаров. Обрывки туч в тревоге неслись над землей, догоняя друг друга, и в их пролетах мерцало бездонное и беззвездное, не успевшее погаснуть и вновь загорающееся по краям небо.
Василий Иванович вышел к Страстному и зашагал по пустынной Малой Дмитровке, весь переполненный восторгом, упиваясь острой свежестью воздуха, омытого грозой. Перед глазами неотступно стояла эта маленькая божественная итальянка Дузе. В ушах звенел, как туго натянутая струна, ее голос, ее трагическое: «Арман-н-н-ндо!»
Боже мой, как она играла! Как эта гениальная итальянка, пренебрегая эффектными, театральными позами и жестами, вела последнюю трагическую сцену!..
Лежа на спине и заложив руки под голову, Василий Иванович вспоминал теперь мастерство Дузе в тончайших деталях: она не ведет сцену полулежа в кресле, обессиленная, умирающая, а все время пытается ходить, но каждый раз слабость заставляет ее присесть то на край постели, то в кресло… Какой огромный талант!..
Василий Иванович вернулся тогда домой около двух часов ночи. Какой-то душевный экстаз заставил его искать разрядки в движении, и он всю дорогу шел пешком, хоть по пути попадались извозчики…
— Папа, можно? — послышался за дверью приглушенный девчачий голос.
— Входите, душата! — улыбнулся Суриков.
Одетые в палевые шерстяные платьица, вошли дочери — веселые, свежие, как две репки.
— Вот тебе газета. — Оля быстро прижалась твердой румяной щекой к темной бороде отца и положила возле подушки свежую газету.
Лена уселась на край кровати — мягкая, мечтательная, очень похожая на мать.
Василий Иванович развернул «Русские ведомости»:
— Та-а-ак…
Он поглядел первую полосу. Официальные сообщения, перемежающиеся с черными рамками «усопших в бозе» и «преставившихся» знатных москвичей. Далее шло в благостном умилении: «Государь-император всемилостивейше изволил пожаловать по министерству финансов следующие ордена: святой Анны II степени на шею…»
— Кому на шею, а кому по шее!.. — пошутил Суриков, переворачивая страницу. — Новый 'рассказ Альфонса Додэ — «Лгунья». Надо будет вечером почитать…
Девочки сидят по краям кровати, газета с хрустом шелестит, в окно доносится голос разносчика: «Редис. Огурчики парниковые! Свежий редис кому угодно?..» — а где-то за ним гул весенней Долгоруковской и грохот колес по булыжной мостовой.
Девочки серьезно уставились на отца. А вот сообщения из-за границы: «…Стачка рабочих в Лодзи. На первое мая полиция и жандармерия безуспешно пытались разогнать толпу рабочих, требовавших повышенной платы…» «Франция. Одна из утренних газет объявила вчера, что в Париже появилась холера…» Суриков переворачивает страницу, она пестрит объявлениями: