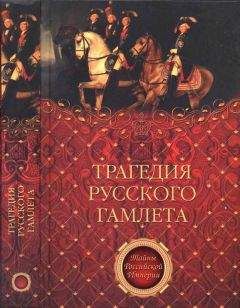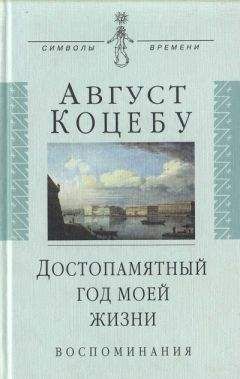К несчастью, его только ненавидели и боялись, и, конечно, при самых честных намерениях он часто заслуживал это нерасположение. Множество мелочных распоряжении, которые он с упрямством и жестокостью сохранял в силе, лишили его уважения тех, которые не понимали ни великих его качеств, ни твердости и справедливости его характера. То были большей частью меры, не имевшие никакого влияния на благоденствие подданных, собственно говоря, одни только стеснения в привычках; и их следовало бы переносить без ропота, как дети переносят странности отца. Но таковы люди: если бы Павел в несправедливых войнах пожертвовал жизнью нескольких тысяч людей, его бы превозносили, между тем как запрещение носить круглые шляпы и отложные воротники на платье возбудило против него всеобщую ненависть.
Дух мелочности, нередко заставлявший его нисходить до предметов, недостойных его внимания, мог происходить от двух причин: во-первых, от желания совершенно преобразовать старый двор своей матери так, чтобы ничто не напоминало ему о ее временах; во-вторых, от преувеличенного уважения ко всему, что делал прусский король Фридрих II.
Павел полагал, что во время могущества князя Потемкина военная дисциплина слишком ослабела и что необходима неумолимая строгость, чтобы восстановить ее в мельчайших подробностях. Вследствие сего снова введены были у солдат обременительные пукли и косы. Меня уверял один гвардейский офицер, что, когда полк должен был на другое утро вступать в караул, солдатам нужно было вставать в полночь, чтобы друг другу завивать волосы. По окончании этого важного дела они должны были, дабы не испортить своей прически, до самого вахтпарада сидеть прямо или стоять, и таким образом в продолжение 36 часов не выпускать ружья из рук.
По той же причине отдан был приказ генералу Мелессино относительно артиллерийских фурлейтов. В русском языке сохранилось немецкое слово «фурман»; но имели обыкновение и во множественном числе говорить «фурманы», покуда император Павел не приказал называть их «фурлейтами». Замечания достойно, что он издал этот указ в самый день своего коронования в Москве, когда, само собой разумеется, более важные предметы должны бы были его занимать.
Когда он вступил на престол, я находился в Ревеле, и очень хорошо помню, с каким любопытством распечатан был первый от него полученный указ: в нем определялась вышина гусарских султанов и приложен был рисунок!
Малейшее отступление от формы было проступком, который навлекал неизбежное наказание. Эти наказания постигали и гражданских чиновников. Никто не мог показываться иначе, как в мундире, в белых штанах, в больших ботфортах, с коротенькою тростью в руке. Однажды государь, прогуливаясь верхом, встретил чиновника, который, будучи уверен, что мундир его в совершенной исправности, бодро стал перед ним во фронт. Но от зоркого взгляда императора не ускользнуло, что чиновник этот не имел трости. Павел остановился и спросил у него: «Что следует иметь при таких сапогах?» Тот затрепетал и онемел. «Что следует иметь при таких сапогах?» — повторил император уже несколько громче. Испуганный чиновник совсем потерялся и, не понимая смысла сделанного ему вопроса, отвечал: «Ваксу, ваше императорское величество!» Тут Павел не мог удержаться от смеха. «Дурак, — сказал он, — следует иметь трость» — и поехал дальше. Счастлив был этот чиновник, что его глупость развеселила государя, а то ему, без сомнения, пришлось бы прогуляться на гауптвахту.
Не менее стеснительным было для столичных жителей повеление выходить из экипажей при встрече с императором.
За исполнением этого повеления наблюдали с величайшей строгостью, и, несмотря на глубокую грязь, разряженные дамы должны были выходить из своих карет, как только издали замечали императора. Я, однако, сам видел, как он однажды быстро подскакал к г-же Нарышкиной,[169] готовившейся исполнить это повеление, и заставил ее остаться в карете; зато сотни других дам, когда они или их кучера не были достаточно проворны, подвергались сильным неприятностям. Так, например, г-жа Демут, жена известного содержателя гостиницы, должна была из-за этого отправиться на несколько дней в смирительный дом, и самые значительные люди, из опасения подобных обид, трепетали, когда их жены, выехавшие со двора, не возвращались к назначенному времени.
Но и тут бывали иногда забавные случаи. Однажды навстречу императору ехала в санях какая-то французская модистка. Едва заметив издали государя, она закричала своему извозчику, чтобы он остановился; но так как она дурно говорила по-русски, вероятно, он ее не понял и догадался, чего она хотела, только тогда, когда уже совершенно близко подъехал к императору. Оглохши от страха, он со всей мочи принялся погонять своих лошадей, чтобы поскорее проехать мимо, в то время как модистка обоими кулаками барабанила по его спине и кричала изо всех сил: «Sure, се n’est pas mа faute, се n’est pas mа faute!» Таким образом сани промчались мимо государя, который при виде этой сцены не мог не разразиться громким смехом.
Эти встречи редко оканчивались так счастливо, и потому обыкновенно старались их избегать. Как только на большом расстоянии замечали императора, поскорее сворачивали в другую улицу. Это в особенности делали офицеры. Государю это было в высшей степени неприятно. Он не хотел, чтобы его боялись. Незадолго до своей смерти он увидел двух офицеров в санях, которые преспокойно свернули в боковую улицу, и хотя он тотчас же послал за ними в погоню своего берейтора, но они скрылись из вида благодаря быстроте своих лошадей. Он был этим сильно разгневан, и я был свидетелем того затруднения, в котором находился граф Пален, получивший приказание непременно представить этих офицеров, а между тем не знавший, по каким приметам их разыскать.
Всякий, у кого не было спешного дела, предпочитал, во избежание неприятности, оставаться дома в те часы, когда император имел обыкновение выезжать из дворца. Стеснение это, без сомнения, было весьма тягостно для столичных жителей, тем не менее в Петербурге еще жили и говорили гораздо свободнее, чем в провинции. Здесь успели свыкнуться с опасностью; там, напротив, каждый содрогался, слыша раскаты дальней грозы. Из губернаторов одни опасались недостаточно угодить государю, другие страшились доноса какого-нибудь завистника, и все они, вообще, скорее преувеличивали каждое повеление; между ними были и такие, которые, под видом покорности, рады были случаю дать полную волю своим собственным тиранским инстинктам. Поэтому в столице все-таки можно было жить покойнее и вольнее, чем в губерниях.